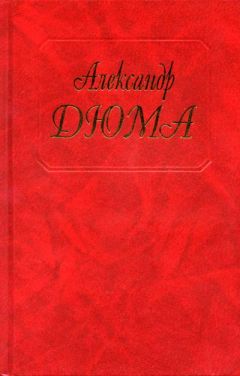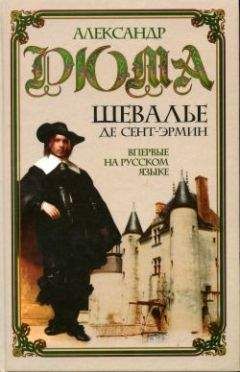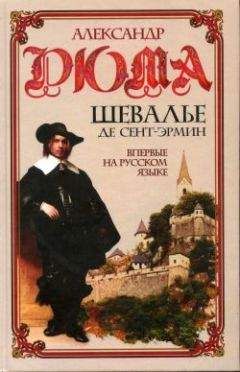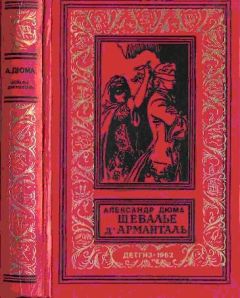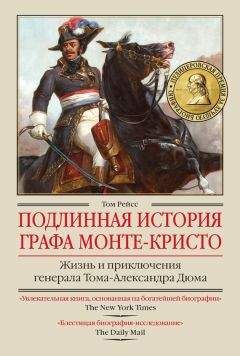Александр Дюма - Шевалье де Мезон-Руж
— Ну, Морис, — нежно произнесла Женевьева, — войдите в мое положение, поймите мою тревогу и не будьте со мной тираном.
Молодая женщина подошла и грустно посмотрела на него.
Морис молчал.
— Так чего же вы хотите? — продолжала она.
— Я хочу любить вас, Женевьева, потому что чувствую, что не могу больше жить без этой любви.
— Морис, сжальтесь!
— В таком случае, сударыня, надо было позволить мне умереть.
— Умереть?
— Да, умереть или забыть.
— Значит, вы могли бы обо всем забыть? — воскликнула Женевьева, и ее глаза наполнились слезами.
— О! Нет, нет, — прошептал Морис, упав на колени, — нет, Женевьева, умереть, может быть, но забыть — никогда, никогда!
— Однако, Морис, — твердо сказала Женевьева, — так было бы лучше, потому что эта любовь преступна.
— Вы и мсье Морану так говорили? — произнес Морис, который от этой внезапной холодности сразу пришел в себя.
— Мсье Моран совсем не такой безумец, как вы, Морис, и мне никогда не приходилось говорить ему о том, как он должен вести себя в доме друга.
— Готов держать пари, — ответил Морис, иронично улыбаясь, — что если Диксмер обедает не дома, то уж Моран обязательно будет здесь. Вот чего было бы достаточно, чтобы помешать мне любить вас. Ведь как только Моран будет здесь, рядом с вами, — и в голосе Мориса прозвучало презрение, — я не смогу любить вас или, по меньшей мере, не смогу думать о том, что люблю вас.
— А я, — сжимая руку молодого человека, воскликнула Женевьева, доведенная до крайности этими вечными подозрениями, — клянусь вам. Вы слышите, Морис? И мне не хотелось бы больше никогда возвращаться к этому. Я вам клянусь, что Моран никогда не сказал мне ни слова о любви, что Моран никогда не любил меня, что он никогда не будет любить меня. Я вам клянусь моей честью и душой моей матери.
— Увы! Увы! — воскликнул Морис. — Как бы я хотел вам поверить!
— Верьте мне, бедный безумец, — сказала она с улыбкой, которая любому другому, но не ревнивцу, показалась бы очаровательной. —
Верьте мне. Ну, что вы еще хотите знать? Моран любит одну женщину, и все остальные женщины на земле меркнут для него, как меркнут полевые цветы перед звездами неба.
— Перед какой это женщиной, — спросил Морис, — могут меркнуть все другие, в число которых входит и Женевьева?
— Разве та, которую любят, — смеясь продолжала Женевьева, — не является для любящего венцом творения?
— Ну что ж, — сказал Морис, — если вы не любите меня, Женевьева…
Молодая женщина с тревогой ждала конца фразы.
— Если вы меня не любите, — продолжал Морис, — то можете ли вы мне поклясться, что не любите никого другого?
— О! В этом, Морис, я могу вам поклясться от всего сердца, — воскликнула Женевьева, довольная тем, что Морис сам подсказал ей ответ.
Морис схватил руки Женевьевы, которые она простирала к небу, и покрыл их страстными поцелуями.
— Теперь, — сказал он, — я буду добрым, доверчивым и великодушным. Я хочу улыбаться и быть счастливым.
— И не будете больше ничего от меня требовать?
— Я постараюсь.
— Теперь, я думаю, — сказала Женевьева, — ни к чему держать лошадь у ворот. Дела в секции подождут.
— О, Женевьева, ради вас я заставил бы подождать и весь мир.
Во дворе послышались шаги.
— Сейчас нам доложат, что обед подан, — сказала Женевьева.
Они быстро пожали друг другу руки…
Это был Моран, который сказал, чтобы его не ждали и садились за стол.
Ему тоже хотелось хорошо выглядеть во время воскресного обеда.
Глава XIX
Просьба
Моран был одет с особой изысканностью.
Даже самый утонченный щеголь не смог бы упрекнуть его ни в безукоризненном узле галстука, ни в отлично сидевших сапогах, ни в тонкости его белья.
Прежними оставались только его волосы и очки. Клятва Женевьевы так ободрила Мориса, что ему показалось, что он впервые по-настоящему разглядел и эти волосы, и эти очки.
«Черт возьми, — сказал себе Морис, направляясь навстречу Морану. — Ну какого черта я так ревновал ее к тебе, великолепный гражданин Моран! Одевайся так хоть каждый день, а по воскресеньям — в золотые одежды. С сегодняшнего дня, я обещаю, что буду замечать только твои волосы и очки, и не буду обвинять тебя в том, что ты любишь Женевьеву».
Можно понять, насколько рукопожатие Мориса, которым после своего внутреннего монолога он обменялся с Мораном, было сердечнее и откровеннее, чем обычно.
Против обыкновения обед проходил в очень узком кругу. На небольшом столе стояли только три прибора. Морис подумал, что под столом он сможет коснуться ног Женевьевы. Нога могла бы продолжить безмолвную любовную фразу, начатую рукой.
Сели за стол. Морис искоса глянул на Женевьеву. Она находилась между светом окна и ним. Ее волосы от этого приобрели голубоватый отлив воронова крыла. Лицо ее светилось от счастья, а глаза были влажны от переполнявшей ее любви. Морис под столом поискал и нашел ногу Женевьевы. Он увидел, как при этом прикосновении она покраснела, потом побледнела. Ее маленькая ножка покоилась теперь между ногами Мориса.
Вместе с изысканной одеждой для воскресного обеда Моран, казалось, вновь обрел свое блестящее остроумие, которым Морис восхищался и прежде. Каскад шуток сопровождался полыханием пламени в его глазах, которое не могли погасить даже зеленые стекла очков.
Он говорил смешные вещи, но сам никогда не смеялся. Именно этот невозмутимый тон придавал силу и особое очарование остротам Морана. Этот торговец много ездивший по коммерческим делам в поисках различных шкур — от пантеры до кролика, знал Египет, как Геродот, Африку — как Левайан[49], а Оперу и будуарные сплетни — как Мюскаден.
— Черт побери! Гражданин Моран, вы просто настоящий ученый!
— О, я много видел, а еще больше читал, — сказал Моран, — а потом нужно же было мне подготовиться к оседлой, размеренной жизни, я ведь скоро сколочу состояние и стану жить спокойно. Уже пора, гражданин Морис, пора!
— Вы говорите как старик, — заметил Морис. — Сколько же вам лет?
При этом вопросе Моран вздрогнул, несмотря на то, что вопрос был вполне естественен.
— Мне 38 лет, — сказал он. — Вот что значит быть ученым, как вы говорите, выглядишь старше своих лет.
Женевьева рассмеялась, за ней засмеялся Морис, Моран лишь улыбнулся.
— Итак, вы много путешествовали? — спросил Морис, сжимая ногу, которую Женевьева хотела потихоньку высвободить.
— Часть моей молодости прошла за границей.