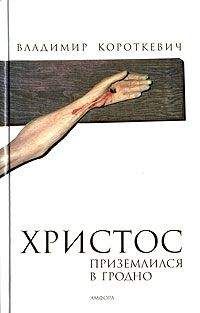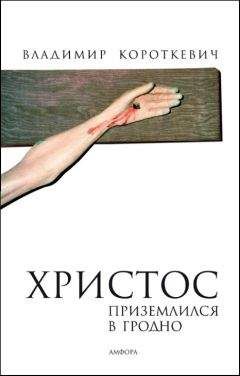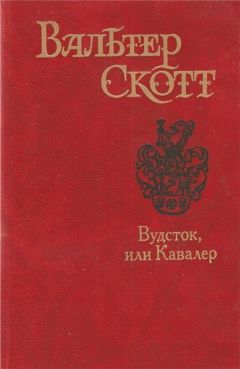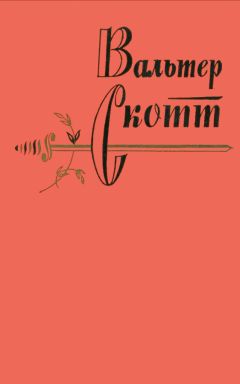Вальтер Скотт - Вудсток, или Кавалер
Когда Уайлдрейк заканчивал свое извинение, вполне уместное и принятое явно благосклонно, собеседники подошли так близко к воротам замка, что часовой у ворот громко крикнул: «Стой, кто идет?»
Полковник Эверард ответил: «Друг», а часовой, повторив приказание: «Стой, друг», позвал капрала охраны. Капрал появился и тотчас же отпустил часового. Полковник назвал свое имя и звание, а также представил своих спутников.
— Не сомневаюсь, что получу приказание немедленно вас впустить, — ответил ему капрал, — но сначала я должен доложить о вас мистеру Томкинсу, чтобы тот испросил разрешение господ комиссаров.
— Как, сэр, — рассердился полковник, — вы узнали, кто я такой, и все-таки собираетесь держать меня за воротами?
— Никак нет, если ваша милость пожелает войти, — возразил капрал, — но только благоволите взять на себя ответственность. Я получил на этот счет строгий приказ.
— Тогда исполняй свой долг, — сказал полковник. — Но чем же вызван такой строгий приказ об охране? Роялисты, что ли, зашевелились?
В ответ капрал пробормотал себе под нос что-то невнятное про врага и про льва рыкающего, который бродит вокруг в поисках добычи. Тут появились Томкинс и двое слуг, несущих свечи в тяжелых медных подсвечниках; они пошли впереди полковника Эверарда и его спутников, прижавшись друг к другу, как дольки апельсина; время от времени они боязливо оглядывались по сторонам, а проходя по разным запутанным переходам, еще крепче держались друг за друга. Поднявшись по широкой деревянной лестнице с резными перилами и ступенями из мореного дуба, они вошли наконец в длинный зал, или гостиную, где в камине пылал огонь, а по стенам в двенадцати больших канделябрах горели свечи. Тут и расположились комиссары, в чьих руках находилась теперь королевская резиденция — старинный замок Вудсток.
Глава XI
Кровавый зверь, индепендент-медведь,
Невежа, неуч, злобно стал реветь.
Скроил себе безбожник павиан
Из всех религий шутовской кафтан.
«Лань и пантера».В ярком свете гостиной Эверард сразу же узнал своих старых знакомых — Десборо, Гаррисона и Блетсона. Они сидели перед горящим очагом вокруг огромного дубового стола, уставленного бутылками с вином и элем; на нем же лежало все необходимое для курения — всеобщей забавы того времени. Между столом и дверью стоял передвижной буфет; раньше в нем хранилась серебряная посуда для торжественных обедов, а теперь он служил перегородкой и выполнял свою роль так успешно, что Эверард, обходя его, смог услышать, как Десборо сказал своим сильным, грубоватым голосом:
— Уж будьте уверены, он прислан, чтобы участвовать в дележе… Его превосходительство, мой шурин, всегда так поступает… Закажет обед на пять человек, а наприглашает столько, что и за стол не усадить… Помню, как-то он позвал к обеду троих, а только и было подано, что два яйца.
— Тише, тише, — остановил его Блетсон.
Как раз в этот момент двое слуг вышли из-за буфета и доложили о прибытии полковника Эверарда.
Читателю, вероятно, небезынтересно будет поближе познакомиться с теми людьми, в общество которых попал Эверард.
Десборо был человек, среднего роста, коренастый, с бычьей шеей, грубыми чертами лица, густыми седеющими бровями и подслеповатыми глазами. Блеск карьеры его могущественного родственника отразился и на нем — он носил богатый костюм, на котором блестело гораздо больше украшений, чем обычно было принято среди круглоголовых. Плащ его был украшен вышивкой, галстук отделан кружевами, на шляпе красовались перо и золотая пряжка; наряд этот был скорее под стать роялисту или придворному щеголю, он ничем не напоминал скромную одежду офицера парламентской армии. Но видит бог, как мало было светского изящества во внешности Десборо и в его поведении — нарядное платье шло ему, как свинье с вывески — золоченые латы. Присмотревшись внимательно, можно было сказать, что он совсем недурен собой; фигуру его нельзя было назвать очень уж неуклюжей и безобразной. Но, казалось, руки и ноги у него двигаются несогласованно, противореча друг другу. Между ними, как говорится в одной пьесе, не было взаимной связи — правая рука двигалась так, как будто враждовала с левой, а ноги стремились идти в противоположных направлениях.
Словом, если прибегнуть к необычному сравнению, конечности полковника Десборо скорее напоминали враждующих представителей некоего федерального парламента, чем организованный союз сословий в устойчивой монархии, где каждый знает свое место и повинуется приказам главы государства.
Генерал Гаррисон, второй член комиссии, был высокий сухощавый человек средних лет; он дослужился до больших чинов в армии и снискал расположение Кромвеля неукротимой храбростью, а популярность среди воинов — святош, сектантов и индепендентов — восторженным фанатизмом. Гаррисон был незнатного происхождения: по примеру своего отца, он в юности был мясником. Однако внешность его, хоть и грубая, была не так вульгарна, как у Десборо, несмотря на то, что тот был более высокого рода и лучше воспитан. От Гаррисона веяло силой и мужеством, он был хорошо сложен, в поведении его проявлялись непреклонные и воинственные черты характера, его можно было бояться, но нельзя было презирать или насмехаться над ним. Орлиный нос и черные глаза украшали не правильные черты его лица. Благодаря необузданному фанатизму, сверкавшему в его взоре, когда он излагал свои идеи, или дремавшему за длинными черными ресницами, когда он предавался размышлениям, наружность его казалась незаурядной и даже благородной. Он был одним из предводителей тех, кого называли людьми Пятой монархии; они заходили дальше крайнего фанатизма своего века, произвольно толковали Апокалипсис и ждали в близком будущем второго пришествия мессии и тысячелетнего царства святых на земле. Они считали, что обладают силой предвидения этих событий, избраны для учреждения Нового Царства, или Пятой монархии, как они его называли, и были уверены, что призваны прославить это царство в небесах и на земле.
Когда фанатизм этот, доходивший до безумия, не овладевал Гаррисоном, он проявлял себя ловким политиком и отличным солдатом; не упускал он и случая увеличить свое состояние и, в ожидании Пятой монархии, с готовностью содействовал упрочению неограниченной власти главнокомандующего. Трудно определить, была ли тому причиной его прошлая профессия, когда он на бойне равнодушно смотрел на страдания истекающих кровью животных, или природная бесчувственность, или, наконец, упорный фанатизм, из-за которого всякий инакомыслящий казался ему противником воли божьей, не заслуживающим ни помощи, ни сострадания, но общее мнение было таково, что, когда армия Кромвеля одерживала победу или брала приступом город, не было человека более жестокого и безжалостного, чем Гаррисон; он всегда цитировал некстати какой-нибудь текст из библии для того, чтобы оправдать постоянные казни солдат, бежавших с фронта; иногда он доходил даже до умерщвления пленных. Поговаривали, что мысли о жестоких поступках порой мучили его совесть, он начинал сомневаться в том, что осуществится его мечта о причислении его к лику святых.