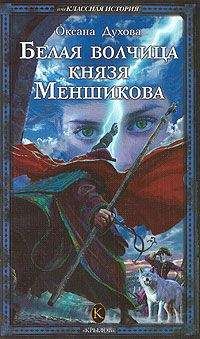Хозяйка тайги - Духова Оксана
Он кивнул, подхватил ее на руки и отнес в пока пустое, холодное, пахнущее деревом жилище.
…Почти два года они не были так близки друг с другом. Два раза в неделю часовые свидания при постороннем человеке уже успели приучить их к сдержанности в выражении своих чувств. Разве то были свидания?! Неужели ж может любящее сердце растянуть час, крохотный час на ночь или хотя бы на несколько часов. Они любили друг друга, но уже забыли, что такое любить тело.
И вот сегодня ради новоселья для них сделано исключение. Они наслаждались предоставленной им уединенностью, узнавали, заново открывали друг друга.
Жемчужно отсверкивала белоснежная кожа Ниночки, круглились холмики молочно-белых грудей, руки ее, словно белые птицы, обнимали плечи Бориса, и, казалось, что этой ночи не будет конца. Они были одни, вдвоем, они были наедине, и удивительное чувство счастья и незабываемой радости наполняло их.
– Боже мой, какая ты красивая, – все время повторял Тугай. – Я так отвык от тебя, я не могу насмотреться, я так люблю тебя, твое божественное тело! За что мне награда такая от Провидения, за что так награждает меня Господь!
А вокруг Нерчинска бродили часовые, у костерков подле острога сидели и лежали конвойные солдаты.
Скоро пройдет эта удивительная ночь, скоро серый рассвет притушит яркий блеск звезд. А пока пусть идет она своим чередом, пусть будет благословенна, она, эта ночь…
ГЛАВА 12
Хотя нет, не замолить грехов Романовых державных, думал он долгими ночами, греясь у печурки и глядя в дымный огонь сквозь ее открытую дверцу. Синее пламя облизывало сосновые поленья, капли смолы выступали на них, как слезы прошедших сквозь муки мученические поколений. Вскипала смола, и выстреливали искры, словно душа из ружья целилась.
Пламя играло отблесками на черных закопченных стенах его неказистой избушки, в которой и всего-то было, что стол, лежанка, два грубо сработанных стула да по стенам кое-где несколько картинок и гравюр религиозного содержания – иконы Божьей Матери и Александра Невского.
На грубом столе, самом примитивном, лежали Евангелие, Псалтырь, акафист Пресвятой Животворящей Троице, молитвенник, изданный Киево-Печерской лаврой да «Семь слов на Кресте Спасителя»…
Прошло два года.
Это были суровые, но все же прекрасные годы. Из маленькой фактории Нерчинские рудники с нищими домишками и лабазом жирного Бирюкова превратились в маленький чистый городишко с нарядными аккуратными домиками, улицей, деревянной мостовой, маленькой часовенкой и комендантским домиком. В последнем даже был зал, в котором участники самой настоящей «театральной труппы» представляли для зрителей пиесы.
Скоро поняли заключенные острога, что умственная пища была для них более необходима и полезна, нежели пища материальная.
Кормили-то их достаточно, правительство положило на содержание каждого по шести копеек меди в сутки и мешок в два пуда муки на месяц. Этого не могло хватать на больших взрослых мужчин. Но оказалось, что общество тайное приучило их всех к братству и общности. И богатые, те, что привезли с собой деньги, стали выделять на всю артель суммы, достаточные для содержания каждого.
Но когда начались лекции и беседы на политические, философские темы, когда каждый из арестантов, а здесь люди все были образованные, мог поделиться своими знаниями с другими, стало совсем весело.
Это было нечто, ранее в Сибири не встречавшееся: арестанты и их жены играли Шиллера и Шекспира. Княгиня Волконская занялась режиссурой, Ниночка играла первых героинь, а полковнику Лобанову достались роли всех великих интриганов. Он изображал и Франца Мора, и Ричарда III, и Мефистофеля, и Шейлока. Когда он топал деревянной своей ногой по сцене и кричал: «Мне по душе лишь запах крови!» – ему верили. Ну, почти каждый верил.
Дворик острога перед высоким частоколом, устроенным из обтесанных бревен и заостренных кверху, был невелик, но почти все выходили сюда просто подышать свежим воздухом или окинуть взором хотя бы и небольшое пространство, но гораздо свободнее маленького, крохотного помещения камеры.
На каждой стороне двора помещался часовой, а в воротах их стояло два. Однако были это люди добрые, и их почти не замечали…
Каждый день, несмотря на мороз и холод, заключенных выводили на конец селения и заставляли засыпать какой-то никому не нужный ров. Ничего не объяснялось арестантам, никаких норм работы не было, и они, изнуренные теснотой, скученностью в камерах, работали на совесть. Здесь во время работ встречались они с теми, кто жил в других домах, и подолгу разговаривали, обменивались новостями, расспрашивали о родных и знакомых, если удавалось получать весточки из дому.
Никто не принуждал заключенных работать, охрана состояла всего из нескольких солдат, и, перевезя несколько тачек земли, все садились в кружок и подолгу разговаривали или даже читали книгу. К Чертовой могиле, как назвали они этот ров, сходились все пути всех арестованных, но кому понадобилось засыпать эту ямину, никто не знал, да, впрочем, и не старался узнать. Работа не только отвлечет от мрачных мыслей, но и придаст крепость мускулам, ослабевшим за время пребывания в казематах Петропавловки.
Лобанов смотрел на их работу сквозь пальцы. Когда закончилась земляная работа, он поставил их на ручные жернова – молоть муку. Но и здесь была такая же история – муки они мололи немного, больше играли в шахматы, читали, беседовали, и продукция их была такого качества, что могла идти только на прокорм быков.
Светская жизнь тоже кипела в Нерчинске. Дамы по очереди приглашали друг друга на чашку чая или для игры в карты, устраивали литературные вечера с громким обсуждением литературных новинок, в Читу и даже Иркутск посылались люди за все новыми книгами и газетами, что потом вновь давало почти неисчерпаемые темы для разговоров.
Генерал Шеин, дважды наведывавшийся в Нерчинск, лишился дара речи, поприсутствовав на шиллеровской «Орлеанской деве», в которой Ниночка старательно изображала Иоанну.
– Если я об этом доложу в Петербург, государь со всем своим двором переедет в Нерчинск, – весело улыбнулся Шеин.
Лобанов только фыркнул в ответ.
– А что? Вполне возможно. Как там вообще, дали ли ход прошению о помиловании?
Шеин по-птичьи склонил голову набок.
– Как я погляжу, декабристы и их жены не очень-то ждут этого самого помилования.
– Но вы писали это прошение?
– Конечно. Оно было передано генералу Абдюшеву.
– Но ведь он должен был сразу же послать его нарочным императору!
– Поверьте, именно так он и сделал. Кроме того, в Петербурге после отъезда жен мятежников настроения сильно переменились. Им очень сочувствуют. И это прямо противоположное тому, на что столь надеялся и уповал император: декабристов по-прежнему не забыли, более того, судьба их жен отягощает совесть оставшихся. А следовательно, забыть о них его величеству никак не дадут.
Но что-то все это – чья-то неспокойная совесть, – было не заметно в Нерчинске. Арестанты теперь работали в лесах, валили деревья, грузили на широкие телеги. И ждали, ждали…
Внезапно по ночам у Ниночки начались припадки. Ей казалось, что с нее, еще живой, сдирают кожу и сжигают на дымном костре, и ее оболочка земная коробится и чернеет, и боль от этой содранной кожи пронизывает ее всю, и нестерпима она, нестерпим жар от огня. И Ниночка кричала так, что было слышно на пустынной улице, и собаки нерчинские отвечали ей тягостным воем, в тоске отзываясь на нечеловеческий, дикий и страшный крик.
Ее будил верный Мирон, обнимал, прижимал к широкой груди, баюкал, шептал какие-то слова и припевал те песни, что пел маленькой озорнице Ниночке в далеком детстве.
Ниночка засыпала, облегченно вздыхая, но через минуту кричала вновь и заходилась в этом крике. Кошмары душили ее.
И вот однажды Мирон приволок целый мешок лука и чеснока, где уж добыл, неизвестно, местные не сажали их. Таясь от Ниночки, рассыпал под кроватью лук и чеснок, разложил по углам дольки.