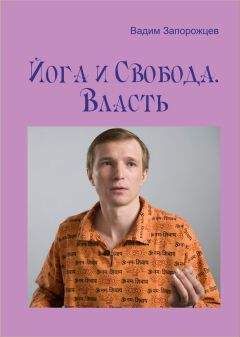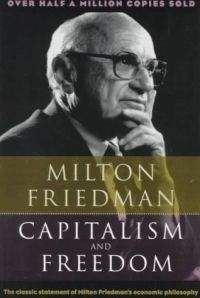Генри Райдер Хаггард - Собрание сочинений в 10 томах. Том 10
Было уже около десяти часов, когда я наконец бросился на свое ложе и попробовал привести мысли в порядок. Но чем более я раздумывал обо всем виденном и слышанном, тем менее я понимал. Что это было — безумие, опьянение, или, может быть, я жертва необыкновенно искусного розыгрыша? Каким образом я, рационалист, неплохо знакомый с важнейшими научными фактами нашей истории, решительно отметающий все эти дешевые фокусы, которые кое-кто в Европе выдает за сверхъестественные феномены, мог поверить, будто беседовал с женщиной, чей возраст превышает два тысячелетия? Весь мой жизненный опыт начисто исключал такую возможность. Значит, это розыгрыш, а если это и в самом деле розыгрыш, то как его понимать? И что можно сказать о фигурах на воде, о необычайном знакомстве этой женщины с далеким прошлым и о незнании или видимом незнании последующей истории? И что сказать о ее поразительном и ужасном обаянии? Это-то несомненная, хотя и трудно постижимая реальность. Ни одна смертная женщина не блистает такой сверхъестественной красотой. Тут она, во всяком случае, права — смотреть на нее небезопасно для любого мужчины. Уж на что, казалось бы, я закоренелый женоненавистник, который, за исключением печального опыта моей незрелой зеленой юности, всегда чурался слабого, как его неудачно называют, пола, — и вот на тебе! К своему глубокому ужасу, я сознавал, что никогда не смогу забыть эти сверкающие глаза, и сама diablerie этой женщины не только внушала ужас, отталкивала, но и неудержимо к себе притягивала. Если хоть какая-нибудь женщина на свете достойна любви, то почему не эта — с ее двухтысячелетним опытом и властью над могущественными силами, со знанием тайны Смерти? Но суть заключалась, увы, не в том, достойна она любви или нет, а, насколько я мог при своей неопытности судить, в том, что я, член ученого совета, известный среди знакомых как отъявленный женоненавистник, человек пожилой, респектабельный, влюбился с такой пылкостью и совершенно безнадежно в белую колдунью. Чепуха, сущая чепуха! И все же она честно предостерегала меня, но я не внял ее предупреждению. Будь проклято пагубное любопытство, вечно побуждающее мужчину сбрасывать покрывало с женщины, будь проклят и тот естественный импульс, которым это любопытство порождается! Именно оно причина половины — нет, более чем половины — всех наших бед. Почему мужчина не может быть счастлив в одиночестве, почему не оставит в покое женщин, чтобы и те могли обрести счастье в одиночестве? Но возможно ли счастье в одиночестве? Боюсь, что нет: ни для нас, ни для них. Хорошенькая история — в такие годы пасть жертвой современной Цирцеи! Но ведь она отрицает, что принадлежит нашему времени. Послушать ее, она такая же древняя, как и та, мифическая Цирцея!
Я запустил руки в волосы, рванул их и соскочил со своего ложа: у меня было такое ощущение, что я сойду с ума, если не сделаю хоть чего-нибудь. Что она имела в виду, говоря о скарабее? Этот скарабей принадлежит Лео, найден он в старом сундучке, который двадцать один год назад оставил в моей квартире Винси. Неужели вся эта история достоверна, и надпись на черепке вазы не подделка, не мистификация какого-нибудь давно забытого безумца? В таком случае Лео и есть тот самый человек, которого она ждет, — давно уже умерший, но возродившийся? Нет, нет, не может быть! Все это вздор, галиматья! Ну кто слышал о чьем-либо возрождении?
Но если женщина может прожить две тысячи лет, значит, и это возможно — все возможно. Может быть, и сам я воплощение давно забытого «я», последний в длинном ряду «я» моих предков? Ну что ж, vive la guerre! Почему бы и нет? К сожалению, я ничего не помню о своих прежних существованиях. Эта мысль показалась мне настолько абсурдной, что я разразился громким смехом и, обращаясь к скульптурному изображению воина на стене, громко крикнул: «Кто знает, старина, может быть, я был твоим современником? Что, если я был тобой, а ты — мною?» Я вновь засмеялся над своей глупостью, и под сводом потолка заметались мрачные отголоски моего смеха, казалось, это призрачный смех призрака воина.
Тут наконец я вспомнил, что еще не навещал Лео, и, прихватив с собой один из светильников, что стояли у моего ложа, босиком, на цыпочках, отправился к нему в пещеру. Струя ночного воздуха, как рука незримого духа, колыхала штору, которая закрывала вход. Я проскользнул внутрь, в сводчатую комнату, и огляделся. Лео беспокойно ворочался на своем ложе, но глаза его были закрыты, он спал. Рядом с ним на полу сидела Устане. Держа Лео за руку, она тоже дремала, — красивая, даже трогательная картина. Бедняга Лео! Его щеки пылали нездоровым румянцем, около глаз темнели обводы, дышал он тяжело и прерывисто. Сразу было видно, что он очень плох, и при одной мысли, что он может умереть и я останусь один в целом свете, меня охватил жуткий страх. Но если он выживет, то вполне может оказаться моим соперником в борьбе за любовь Айши, пусть даже он не тот, кого она ожидает; какие шансы у меня, человека немолодого, безобразной наружности, одержать верх над юностью и красотой?! Но хвала Небу, Ей еще не удалось убить во мне чувство Добра и Справедливости: и, стоя там, в пещере, я вознес мольбу Всевышнему о том, чтобы мой мальчик, мой сын, больше чем сын, выжил, даже если он и есть тот самый, кого дожидается Айша.
Затем я крадучись вернулся к себе в пещеру и лег, но сон никак не шел ко мне: перед моими глазами маячил больной Лео, и это все подливало и подливало масла в огонь моей тревоги. Сильная физическая усталость и перенапряжение ума способствовали неестественной активности моего воображения. Видения, догадки, вдохновенные вымыслы — все это рождалось в нем с необыкновенной яркостью. Кое-какие из этих плодов фантазии казались гротескно-странными, другие вселяли ужас, третьи воскрешали мысли и чувства, долгие годы погребенные под развалинами прошлого. Но за всем этим и над всем этим витала тень поистине необыкновенной женщины, меня переполняло воспоминание о ее красоте и обаянии. Я большими шагами ходил по пещере — взад и вперед, взад и вперед.
И вдруг я заметил довольно широкую щель в каменной стене. Я взял светильник и заглянул в эту щель; оказалось, что к ней примыкает какой-то проход. А во мне сохранилось достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что это чревато опасностью. Оттуда могут появиться люди и застать тебя врасплох — особенно, когда ты спишь. В непреодолимом желании сделать хоть что-нибудь, я решил проверить, куда ведет этот коридор. Дойдя до каменной лестницы, я спустился по ней; от самого ее подножия начинался другой коридор, или тоннель, высеченный в каменной породе; насколько я мог судить, он пролегал как раз под галереей, которая шла от большой центральной пещеры к нашим комнатам. Тишина здесь стояла могильная; подталкиваемый каким-то странным, непонятным мне самому чувством или влечением, я направился вдоль по этому тоннелю, бесшумно ступая ногами в мягких носках по гладкому полу. Ярдов через пятьдесят я подошел к другому, поперечному тоннелю; здесь со мной случилась большая неприятность: порыв сквозняка загасил мой светильник, и я остался в полной темноте в недрах этого таинственного места. Я сделал пару шагов вперед и остановился, смертельно боясь заблудиться. Что было делать? Спичек я с собой не захватил, а проделать в кромешной тьме долгий обратный путь было делом очень рискованным, но не мог же я торчать там всю ночь, к тому же утренний свет навряд ли мог бы проникнуть сюда, в самую глубь горы. Я оглянулся через плечо назад, — ни проблеска, ни шороха. Внимательно посмотрел прямо перед собой: впереди виднелось какое-то слабое мерцание. Возможно, я смогу раздобыть там огонька — во всяком случае, стоило попытаться. С мучительной медленностью я побрел по тоннелю, ощупывая рукой стену и на каждом шагу проверяя ногой пол: нет ли впереди какой-нибудь ямы или провала. Тридцать шагов — и я ясно увидел перед собой шторы, пронизанные изнутри ярким светом. Пятьдесят шагов — шторы совсем рядом. Шестьдесят — о, силы небесные!