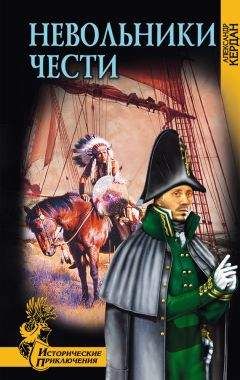Александр Кердан - Крест командора
Глава первая
1Шкурки соболя были великолепны: отливали золотом, искрились на свету, ровно адаманты. А еще – десяток добрых морских бобров, столько же шкур красной лисицы да несколько сиводущатых…[46]
Перебирая эту знатную рухлядь, ясачный сборщик молодой казак Алешка Сорокоумов сделал над собой усилие, чтобы виду не подать, что мех хорош.
Он напустил на себя важный вид, вытащил одну шкурку из кипы, встряхнул несколько раз, осмотрел со всех сторон и с прищуром спросил у набольшего камчадала, что принес ясак:
– Зачем хвост у соболя отрезал, Федька?
Еловский тойон Федька Харчин закрутил головой, мол, не понимаю, чего начальника хочет.
Сорокоумов начал яриться: все понимает бесов сын, но мозги пудрит. Он кликнул толмача, чтобы расталдычил тойону вопрос. Камчадал залопотал по-своему. Харчин что-то ему ответствовал, тыча пальцем то в шкурку, то в землю, то в сторону реки.
Сорокоумов нетерпеливо наблюдал за переговорами, прикидывая в уме, как бы еще сдернуть с неуступчивого тойона бобров да соболей, но уже не в государеву казну, а в собственную мошну.
Наконец Харчин умолк, и толмач, с трудом подбирая слова, перевел:
– Тойона сказал, нада хвоста глина мешать. Глина крепкий горшок делать. Шкурка без хвоста хорошо. Горшок без хвоста совсем плохо.
Сорокоумов сообразил, что волос соболя пошел на изготовление глиняной посуды, для придания ей прочности, но сделал вид, что ничего не понял. Более того, счел, что лучшего момента для получения нового ясака не найти. Он вдруг кинул бесхвостую шкурку себе под ноги и стал топтать ее с остервененьем. Камчадалы растерянно наблюдали за ним. А Сорокоумов высоко по-бабьи заорал, выпучив зенки и разбрызгивая слюну:
– Шкурку бесхвостую, Федька, ты себе в зад заткни! Шкурка такая всё одно што лист подорожника для подтирки!
Подустав драть глотку и сучить ногами, Сорокоумов внезапно остановился, перевел дух и уже без крика приказал толмачу:
– Скажи тойону, што ён мне вместо этой, бесхвостой, ишшо десять соболей должон, а не отдаст к завтрему, я его в яму посажу! А детей его в аманаты заберу, а женку в наложницы…
Тойон на требование начальника ничего не ответил, только слёзы ручейками потекли по лицу. Он повернулся и понуро побрёл прочь.
– Смотри, толмач, чтоб Федька топиться не надумал! – брезгливо скривился Сорокоумов. – Знаю я ваш плаксивый народишко. Чуть што не по вам, зараз рыдаете, аки бабы… А то ишшо руки на себя наложить норовите… Нехристи… Прости мя, Господи!
Он подтолкнул толмача в спину:
– Ступай за им! Смотри, ежли утопнет, сам тады за Федьку мне соболей должон будешь!
Толмач низко поклонился и бросился догонять тойона. Когда они скрылись из виду, Сорокоумов поднял шкурку с земли, стряхнул пыль, ласково погладил серебристый мех, залюбовался: экая красотища. Каждая такая – целое состояние!
Он бережно упаковал шкурку в кипу. Перенёс рухлядь в ясачную избу, уложил на полати. Ещё раз провел рукой по соболям, осклабился, представил, как разбогатеет, как вернётся на матерую землю, заведёт свой дом, хозяйство. Наконец-то сосватает соседскую Устьку, отец которой богатей Козьма Митрофанов никак не хочет родниться с ним, голодранцем. А тады… Устька, уже по закону, дозволит ему делать то, что прежде, страшась отцовского гнева, разрешила токмо однажды, перед самой разлукой, украдкой, на сеновале… Он и сейчас помнит ее белые, точно спелые репы, тяжелые груди с розовыми набухшими сосками, нежные, трепетные под рукой, точно мех соболий. Губы у Устьки прохладные, а дыхание порывистое, горячее, будто только что выскочила она из парной… Все тело ее молодое, манящее, пахнущее сеном…
От сладких воспоминаний у Сорокоумова аж в глазах потемнело, во рту пересохло. Он с трудом сглотнул, прошёл к столу. Плеснул в глиняную кружку казёнки из сулеи, одним махом выпил. Крякнул. Поискал глазами, чем зажевать. Ничего не нашёл. Шумно занюхал рукавом кафтана. Поскрёб грудь грязной пятерней: ах, Устька, Устька! Наполнил кружку, теперь уже до краев, и в три глотка опорожнил. Икнул. Прислушался к себе: не добавить ли? Решил, что хватит: и так захорошело…
Не раздеваясь, не сняв сапог, Сорокоумов бухнулся на лавку и проспал беспробудно до самого вечера, не чуя беды…
Когда круглое, оперённое красным, как бубен шамана, солнце закатилось за Ключевскую сопку, к ясачной избе, осторожно ступая, подошло несколько ительменов, вооружённых копьями и луками. Вел их Федька Харчин.
Беспечно дрыхнувший Сорокоумов не услышал, как тонко вякнула пронзённая копьем собака во дворе, как ительмены подперли дверь избы кольями и стали стаскивать к порогу и к стенам валежник. Двое из воинов с луками наизготовку встали у окон, впрочем, таких узких, что вряд ли через них можно было бы выбраться наружу.
Когда приготовления были закончены, Харчин кресалом выбил огонь в пучок сухого мха, сунутый под хворост. Мох занялся, и вскоре острые языки пламени охватили дверь и стены избы.
Может быть, Сорокоумов и задохнулся бы в дыму, если бы по соседству не заметили пожар. Звук колокола разбудил Сорокоумова.
Очумелый, он не сразу сообразил, что к чему. По полу избы стелился густой, удушливый дым. Снаружи трещало, будто валежник под пятой вставшего после спячки косолапого. Сорокоумов закашлялся. Вскочил и заметался по избе, как нечистый под кропилом. Сначала бросился к двери, торкнулся в неё со всего маху. Только плечо зашиб, а дверь – ни в какую… Кинулся к окошку, но едва высунул в него голову, как совсем рядом впилась в наличник стрела с костяным наконечником. Тотчас звенькнула, отскочив от косяка, вторая. Отпрянув, Сорокоумов заметил чуть поодаль нескольких ительменов, беспристрастно взирающих на пожар. Он разглядел среди них тойона Харчина.
– Заживо меня спалить порешил! Ах ты, курва рыбохвостая, ядрить тя! – в сердцах выругался Сорокоумов и тут же снова закашлялся от едкого дыма.
Огонь был уже в избе, ярился, обступал казака со всех сторон.
Ужас навалился на него, как медведь на зазевавшегося охотника: «Ужели конец! Маманя! – в голос готов был возопить он, и запоздало стал мелко-мелко креститься: – Ма…ма… матушка, Пресвятая Богородица! Спаси и помилуй! Век за тя…»
Икона Заступницы была уже не видна – красный угол объят пламенем. Но молитва неожиданно возымела действие. Сорокоумов внезапно обрёл способность думать. Он уже осмысленней огляделся, ища выход. Наткнулся взглядом на кадку с водой. Кинулся к ней, вылил на себя. Вода была теплой, но ему полегчало.
Сорокоумов вспомнил, что где-то есть потайной лаз на чердак. Одним махом влез на полати, встал сапожищами прямо на бесценную рухлядь: до шкурок ли, когда живот спасать надо! Дыму на полатях было ещё больше, чем внизу. Вывернув мокрую рубаху на голову, он, кашляя, принялся судорожно шарить по потолку. Нащупав крышку, толкнул ее, уцепился за край лаза, подтянулся и одним рывком взобрался наверх.