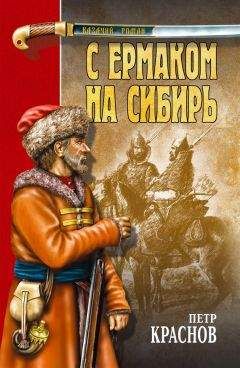Петр Краснов - Белая свитка (сборник)
— Да ведь, товарищ комиссар, нету другой. А нам постоянно маршруты отпускным составлять приходится.
— Бросьте, Сруль Соломонович, — опять вступился Выжва. — Я его хорошенько сам проберу. Я им сколько раз говорил… Никаких России, и баста.
— Ну, знаете, говорить это мало. Надо-таки внушать. Надо убеждать, надо доказывать.
«Поди, докажи, — подумал про себя Корыто, — когда она есть. Когда она кругом. — Он потянул носом крутой запах солдатских щей и крякнул: — Вот она тебе самая настоящая Россия».
— Вы что, товарищ Корыто? Ну, и вы, я вижу, не совсем со мной согласны.
— Помилуйте, товарищ комиссар. Разве я могу-с в чем-нибудь быть с вами не согласен?
— Ну-ну, — снисходительно промычал Медяник. — Что же вы, Михаил Антонович? Идете пробовать пищу, как всегда?
— Да, как же.
— Ну, а я, знаете… С меня довольно одной этой вони. Я этих самых щей ваших терпеть не могу. Мой желудок их прямо не переносит. Прощайте. Товарищ Корыто, проводите меня.
«Тебе бы все фаршированную щуку лопать», — подумал Выжва и громко спросил:
— Сруль Соломонович, придете сегодня в девять?
— Ну и почему нет? Выржиковский будет?
— Придет и Выржиковский.
— Ну и я приду… Пхэ… Я старый студент. Люблю-таки эти холостые пирушки до утра. Я тоже богема. Вот он, — Медяник снисходительно кивнул на Смидина, — может стихи нам почитать.
— Можно, товарищ комиссар, — откозырял Смидин.
5Всю эту, такую разнообразную компанию — Выжву, рабочего белоруса, еврея Медяника, русского старого солдата Корыто, полуполяка-полурусского офицера Выржиковского и начальника полкового штаба, развратника и кокаиниста Смидина — объединяло одно: водка.
Собирались у командира полка. У него жилплощадь была больше. Он был холостой, и никто не мог помешать у него посидеть и пошуметь. Обстановка была небогатая и сборная. Бывшую Ядринцевскую командирскую квартиру разделили на четыре: для комполка, для комиссара, для начальника хозяйственной части и для помощника по строевой части. Четырехоконная зала была разделена на три неравные части. В большей, в два окна, была столовая Выжвы. В ней на большом столе, накрытом грязной полопавшейся клеенкой, были поставлены стаканы, рюмки и тарелки с закуской. С края кипел старый, помятый самовар. Красноармеец-ординарец перетирал у стола посуду.
Выжва в ожидании гостей сидел на простом диване и просматривал только что поданный ему дежурным по полку вечерний рапорт. Грозные цифры ведомости его смущали. Он третий раз перечитывал:
— «Доношу, что за истекший день во вверенном вам полку никаких происшествий не случилось. Арестованных состоит восемь. На перекличках не оказалось 15 человек. Приложение — 2 списка».
Выжва посмотрел списки.
Арестованы были за нарушение внутреннего порядка в казармах. Выжва знал: пакостили в Ленинском уголке… За неблагопристойное поведение на улице: избили в пьяном виде местных жидов… За изнасилование тринадцатилетней девочки, за воровство, за дерзость.
Отсутствовали по разным неизвестным причинам… Впрочем, Выжва эти причины тоже знал — находились в побеге. Из полка бежали каждый день.
Выжва крепко задумался над рапортом. Слова утром слышанной от красноармейцев присяги бродили в голове.
«…Перед лицом трудящихся классов Союза Советских Социалистических Республик и всего мира обязуюсь носить звание воина рабочей и крестьянской армии с честью, добросовестно изучать военное дело и как зеницу ока хранить народное и военное имущество от порчи и расхищения…»
И крали, и проматывали, и продавали все, что можно продать.
«Обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких поступков, унижающих достоинство гражданина Союза Советских Социалистических Республик, и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся».
Выжва опустил голову. Стаями, как кобели над сукой, в очередь, насиловали загнанных, застращанных девчонок, были грозою местечковым жителям… Его начальник штаба, Смидин, жил уже с шестою женою и теперь норовил соблазнить Пульхерию, дочь Корыто. Нюхал кокаин, писал стихи, разыгрывая из себя какого-то Есенина, и пользовался расположением комиссара Медяника.
И дальше лезли в голову такие же громкие слова торжественного обещания.
«Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Союза Советских Социалистических Республик от всяких опасностей и покушений всех врагов и в борьбе за Союз Советских Социалистических Республик, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни…»
Здорово сказано: «Дело социализма и братства народов».
Выжва свистнул.
«Как же… Знаю я их. Разбегутся… Не станут воевать. Они ничего этого не понимают. Они и слова-то “социализм” выговорить не могут. Утром на словесности спросил я у Краснодуба, что такое социализм. А он вытаращил круглые, бараньи глаза, да и выпалил во все свое красноармейское горло: “Так что сицилизма энто «царь-отечество», товарищ командир…” А потом я же окажусь виноват. Придется мне отвечать за все это и будет, как гласит пункт шестой присяги, “моим уделом всеобщее презрение и покарает меня суровая рука революционного закона…”».
Выжва даже сплюнул от раздражения.
«Эх, поговорить с Выржиковским про то, как раньше было…»
Точно мысль его была способна привлекать людей, зазвонил в приемной звонок и красный от мороза и ветра вошел Выржиковскии.
Иван Дмитриевич Выржиковскии был старый кадровый офицер. Ему было за сорок. Преждевременно поседевшие волосы были еще густы и темно-серою шапкою покрывали его голову. Над верхней губой были небольшие стриженые седые усы. Лицо было тонкое, породистое. Он был худ, строен, высокого роста. Отличный фронтовик, гимнаст, строевик, охотник, он служил только делу, не интересуясь политикой.
Все строевое обучение полка лежало на нем.
Как раньше, до войны, он был образцовым ротным командиром, а на войне блестяще командовал батальоном и получил Георгиевское оружие в доблестном Муринском полку, так и теперь он с полным знанием и сознанием правоты своего дела принялся муштровать и ставить на военную ногу весь полк. «Армия, — говорил он, — великая молчальница. Армия должна быть вне политики, и я человек аполитичный. Мне все равно, что царь, что советы». С тем же подобострастно-служебным видом, с каким, бывало, он подходил с рапортом к командиру корпуса, седому заслуженному генералу с Георгиевским крестом за Шипку, он подходил теперь к юному еврейчику, члену Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик, отчетливо салютовал шашкою, рапортовал, осаживал и вытягивался. И нельзя было в глазах его уловить никакой мысли. «Служу-с», — показывал он своею фигурою, лицом, отчетливостью поворота, стройностью выправки.