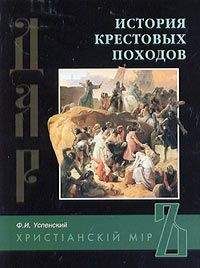Федор Гайворонский - Последний тамплиер
Я сажусь в любимое кресло, и остывая от событий минувшего дня, искренне желаю себе сохранять потребность защищать слабых всегда и везде, пока мои чресла будут препоясаны мечом…
Защищать слабых… 1290 год. Иерусалим еще не пал.
До поместья, единовластным хозяином которого я стал после смерти дяди и куда добирался из Палестины вот уже который месяц, оставалось немногим более десяти лье. Была пасхальная октава, время свадеб. Я различал шпиль старой часовни на холме, в которой когда-то был крещен, и предвкушал, как встретят меня мои крестьяне. Было интересно увидеть сверстников-простолюдинов, с которыми я когда-то играл, будучи ребенком. Какими они стали, как сложились их судьбы? Я думал о могиле матери, сожалея, что не смогу положить с ней рядом прах отца. И вдруг…
Наш отряд выехал на опушку. Невдалеке мы увидели сложенный костер и толпу крестьян перед ним. Я пришпорил коня и поспешил к костру. К столбу была привязана цепью рыжеволосая девушка, чье некогда белое платье, было порвано, испачкано яичными желтками и грязью. Толпа, увидев меня, притихла, а тощий монах со всклокоченными седыми волосами, подошел ко мне и надрывно произнес:
— Прочь отсюда, благородный рыцарь! Не оскверни себя взглядом ведьмы.
Я сказал:
— Я — хозяин этой земли, баронет Шюре. Что здесь происходит?
Крестьяне поспешно обнажили головы и поклонились. Из их рядов вышел человек, судя по всему, староста и сказал:
— Господин! Эта женщина — ведьма, она — вальденка. Сегодня, в день своей свадьбы, она попросила разрешения поспать перед венчанием, сославшись на усталость. Но когда спала, и мы все это видели, имела сношение с дьяволом! Она совершала непристойные движения телом, как будто совокуплялась с мужчиной, но при всем при этом, она была одна в комнате! К тому же ее мать уверяла, что дочь девственна, но когда мы осмотрели ее, оказалось, что это не так. Вот тогда-то мы и поняли, что она — ведьма и заслуживает костра.
Я подъехал к девушке.
— Это так?
Она молчала, покорно опустив глаза. Я наклонился с коня и поднял за подбородок ее голову. Кроме слез, я не увидел в ее глазах ничего. Тогда я спешился. Взойдя на костер, я приблизил свои губы к ее уху и спросил тихо:
— Ты хочешь замуж?
— Нет… — ответила она.
— Сколько тебе лет?
— Шестнадцать…
— У тебя есть другой возлюбленный?
— Уже нет …
Я приказал оруженосцам распутать цепь. Толпа зашумела. Монах завопил:
— Вы нарушаете божью волю!
И вцепился в ее платье. Я оторвал отшельника и, не стесняясь, столкнул его с поленьев. Он упал, разбил бровь. Я сказал:
— Господь прощал грешниц и нам велел. Эта женщина поедет в замок. Я заставлю ее искупить грехи молитвой и очистить свою душу от скверны. Господь не для того послал ее в мир, чтобы мы ее убивали, а чтобы мы сделали ее душу лучше.
Несчастная села в телегу. Мы продолжили путь.
Тощий монах-отшельник, утирая кровь, метал в мою сторону ненавистные взгляды. Мне же тогда было все равно. Я исполнял свой рыцарский долг, я защищал женщину.
Во дворе замка Гвинделина упала на колени и стала целовать мои сапоги. Я поднял ее и стал стирать с ее лица пыль и слезы, и тогда она шепотом, захлебываясь слезами, испросила позволения в знак благодарности за спасение, стать моей наложницей … Она была молода и красива, и потом, я еще не знал женщины…
— Приходи, — шепнул я девушке, дрожа всем телом, — после трапезы…
Проклятье! Мой живот полон. Жак! Жак! Проклятый тюремщик ушел. А как не хочется использовать чан в углу камеры. Камеру потом наполнит вонь. И будет держаться, пока Жак не приведет какого-нибудь забитого узника, и тот не вынесет чан с испражнениями. Нет. Ждать нельзя. Иначе будет болеть промежность и я не смогу быть с женщиной. Так учил Гиллель, мудрый, грязный жид. К дьяволу всех! В конце-концов меня освободят, а Жак всю оставшуюся до пенсии жизнь будет задыхаться в тюремной вони…
Вонь…Вонь…Вонь…Вся наша жизнь человечья— сплошная вонь. Воняют разлагающиеся трупы преступников на базарных площадях, воняют города, воняют крестьяне, не знающие бань, воняет скот, лачуги, дети … Воняет вся Европа с ее королями и королевами. Только Восток пахнет смирной и сандалом. И Гвинделина…
Я накрыл чан охапкой соломы и вернулся на прежнее место. Надо будет сказать Жаку, когда тот придет, чтобы тюремные плотники сделали крышку для чана.
Итак, меня обвиняют в: поклонении дьяволу, участию в сатанинских празднествах, содомии, заговоре против короля, чернокнижии, многоженстве. У них нет ни одной серьезной улики. Я это знаю, чувствую сердцем. Все записано со слов слуг. А что они знают, слуги? Меня считают тамплиером. А я никогда им не был. И Великий Командор Ордена базиликан подтвердит это. А может быть, уже подтвердил? Все остальные обвинения основываются только на мнении, что я — храмовник. Пара-тройка влиятельных свидетелей покажут, что это не так. Спорить с ними не станут. К их мнению прислушивается даже король. Остается многоженство. Но и тут достаточно будет свидетельства преподобного Николая, который венчал нас с Жанной, и которому мы исповедовались перед тем, чтобы обвинения в многоженстве рассыпались в прах. Я не венчан с Гвинделиной. Так сказал я, принося клятву на Библии. И это действительно так.
Я закрыл глаза. И увидел в мыслях их лица — Гвинделины и Жанны. Первая никогда не сможет стать моей женой. Вторая …
Со дня моего возвращения в Шюре минуло около месяца. Гвинделину я отдал на попечение моей старой кормилицы — матушки Дануты, доброй, седой славянки, которая, казалось, жила здесь всегда. Ее сын состоял послушником при каком-то монастыре, и по слухам, собирался стать священником. Дни напролет я занимался делами, приводя изрядно запущенное дядей поместье в подобающий вид. Нужно было все строить заново. Запасы замка оказались сильно истощены. В течении трех последних лет покойный дядя совершенно не интересовался своим владением. В результате кладовые оказались наполнены крысиным пометом и шелухой, а колодец затянут песком. Я представил, в каком положении могу оказаться, если вдруг, замок будет взят в осаду, и мороз пробежал по моей спине. В первую очередь, необходимо было обновить припасы. Потом — обновить оборонные сооружения, построить на замковых башнях машикули. Я разослал гонцов по селам оповестить мой указ — все мужчины старше семнадцати лет приходят в замок для строительных работ. Полевыми работами занимаются женщины и дети. Каждый работник приносит с собой четыре копченых окорока, или два мешка муки, или четыре мешка зерна, или шесть мешков сушеных яблок, или пять вязанок сушеной рыбы, или иных припасов, способных храниться долго, не менее пяти мешков. Я догадывался, что скажут обо мне крестьяне, и опасаясь мятежа, держал гарнизон замка при оружии все дни, пока не стали прибывать первые работники с топорами, пилами и молотками. Но люди собирались долго и неохотно. Многие попросту уклонились от работ. Тогда я с отрядом конных лучников проехал по селам и выловил некоторых уклоняющихся. Их публично высекли плетьми и отправили на работы. Пузатый пьяница, кричавший больше всех, был повешен возле часовни. После подобной экзекуции в замок прибыла последняя волна работников — тех, кто бежал в леса, но, услышав о каре, могущей настичь их, вернулся. Их я великодушно простил.