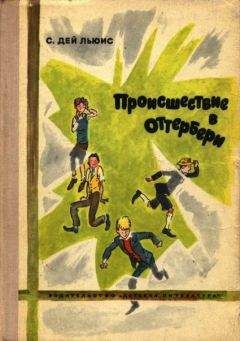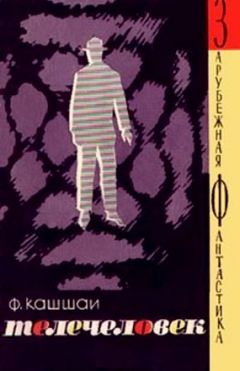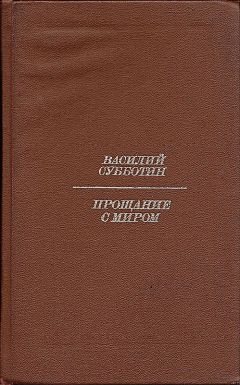Александр Корделл - Белая кокарда
Н. Демурова
Письмо
Кто хотел бы забыть девяносто восьмой,
Кто судьбы патриотов стыдится?
Кто глаза опустил и молчит, как немой,
Когда трус над героем глумится?
Когда я свернул на дорогу к Фишгарду и отпустил поводья, звёзды на небе так побледнели от холода, что, казалось, вот-вот исчезнут. Майя была крупная лошадь, она привыкла к большему весу моего отца и теперь упивалась своей силой — она знала, что судьба Ирландии зависит от нас с нею; её копыта отбивали гулкую дробь, когда мы мчались мимо обтрёпанных ветром кустов, закутанных, будто в саван, в туман, пришедший с моря. Поднявшись по склону, я увидел сверху холодные и неприветливые пембрукские[4] поля, ослепительно белые в свете полной майской луны, а к югу — мятое серебро залива и корабли Не́лсона. Их было двадцать два; шквальный ветер бил их паруса, а они рвались с якорных цепей, как тигры, и были готовы вновь кинуться в бой с французами. Но я не стал их разглядывать и поскакал дальше; белая пыль стелилась за нами по ветру, дувшему из бескрайней Атлантики, придорожные деревья пролетали, скособочась, мимо, а ветер вонзал мне в лицо песчинки.
— Майя, давай! — кричал я, покрывая шум ветра. — Майя! Майя!..
Я приподнялся в стременах и схватил её за гриву, она вскинула голову и радостно заржала, и я почувствовал, как ходят подо мной её крутые бока, и в такт моему бьётся её сердце, и как радует её мысль о деле, которое завещал нам мой отец.
Джонсон мы прошли на таком резвом галопе, что и мёртвые пробудились бы от нашего скока; вывески кабаков скрипели на ветру, словно крышки гробов, а низкие домишки по обе стороны улиц притаились, как овцы, ждущие весны. И дальше, дальше, к мосту Ме́рлина; если мне — из-за белой кокарды — готовят засаду, то, скорее всего, на выезде из города. Подумав о засаде, я высвободил эфес шпаги и гикнул, вновь прильнув к Майиной шее, и дорога, летевшая из-под её копыт, была будто пурпурный змей в свете гонимой шквальным ветром луны.
Ещё миля[5] галопом, а потом я натянул поводья, и на рысях мы въехали в рощу поодаль от дороги. Здесь пенился ручей, спешащий к морю. Я припал к ручью рядом с Майей; напившись, я снял свой кожаный камзол и набросил на её влажный круп. И пока она отдыхала и щипала траву, я вытащил из-за пояса небольшой кремнёвый пистолет, зарядил его, насыпал на полку пороха из рожка и уселся в тени живой изгороди, наблюдая за дорогой. Вскоре мимо с грохотом промчалась карета, запряжённая четырьмя гнедыми; она направлялась к Милфорд-Хейвену;[6] мелькнуло золотое шитьё на офицерских мундирах; карету бросало из стороны в сторону, бока лошадей дымились под кнутом, а кучер согнулся под ветром в три погибели, и дождь стекал с его широкополой шляпы.
Карета пролетела мимо, я взглянул на пистолет в своей руке и вспомнил, что ещё и недели не прошло, как его держал в руках мой отец. Они подстерегли его на этой же дороге к Фишгарду и выстрелили ему в спину, но он удержался в седле, и Майя вернулась с ним домой. Когда его снимали с седла, он позвал меня и велел всем уйти; он позвал меня и дал мне письмо, и ещё он дал мне белую кокарду, а потом оп умер. Он велел и мне умереть за Ирландию, если я не доставлю письмо.
Я ощутил страшную пустоту в сердце и прислонился к дереву. Майя, почуяв мою печаль, подошла и потрогала влажными губами моё лицо, как это делают лошади, если они тебя любят. Так она трогала моего отца, когда была им довольна.
Я бы заплакал, да только Майя на меня глядела. Быть взрослым не очень-то весело, подумал я; в этот день мне исполнилось семнадцать.
— Отстань от меня, — сказал я Майе. — Мы что, тут целый день будем прохлаждаться?
Прежде чем продолжить путь, я проверил тайный надрез в седле: письмо к лорду Фицдже́ралду было там. Надев камзол, я поправил белую кокарду на плече. А потом с разбега прыгнул в седло — Майю это всегда приводило в восторг, она поднялась на дыбы, пытаясь сбросить меня на землю.
Но мне было не до шуток, и Майя прижала уши, ударила копытами о землю, и мы поскакали на запад. Звёзды трепетали в небе, по которому неслись грозовые тучи, — мы мчались к Фишгарду.
И в первый раз после его смерти — ведь Майя не могла меня теперь видеть — я заплакал об отце.
Засада
За милю от Фишгарда я свернул с дороги и обходной тропой спустился к пристани, где стоял пакетбот, уходящий в полночь. Он чётко вырисовывался на фоне ярко освещённого луной моря.
Вдруг Майя вздрогнула, почуяв опасность, пронзительно заржала и взвилась на дыбы. Раздался выстрел, дорога на миг вспыхнула слепящей белизной. В грохоте копыт я упал с седла, покатился в придорожные кусты и замер; я слышал, как Майя скачет вдали по полям; сделав круг, она вернётся — так научил её отец. Я лежал на земле, сжав в руке эфес шпаги, и видел головы и плечи мужчин на фоне звёздного неба и блеск стали.
— Клянусь небом, мы его упустили!
— Он ускакал?
— Да нет, Майк, я видел, как он упал. Эй, Джон Риган, ты здесь?
Я лежал неподвижно, лицом в траву, и молил, чтобы Майя поскорей вернулась, как научил её отец. Тяжёлая поступь сапог приблизилась, посыпались искры, вспыхнул фонарь и поплыл вдоль кустов, осветив ночь багряным пламенем. Чёрный дым от выстрела скопился в ложбине, и я, задыхаясь, уткнулся лицом во влажную землю.
— Риган, можешь показаться, ты среди друзей.
Я не шелохнулся. В Ирландии сейчас было немало людей, называвших себя «объединёнными ирландцами», но они могли высечь крестьянина, если тот держался другой веры, и сломать человеку руку, чтобы он молчал. То были отребья общества, всплывшие в эти тяжёлые времена на поверхность; люди, подобные отвратительным гессенцам, которые пытали горящим смоляным колпаком, колодками и полузадушеньем; люди, стрелявшие в спину.
Вот один из мужчин зашуршал в кустах у меня за спиной, и, обернувшись, я на миг увидал его в свете луны; он вздрогнул и широко открыл глаза, когда я вскочил; увернувшись от его неуклюжего кулака, я с хрустом ударил его сбоку в челюсть. Он глубоко вдохнул воздух и повалился прямо на меня, и я опустил его на землю у своих ног.
Оставались четверо.
Но они повернули на шум и окружили меня на дороге. Я удивился, увидав, что они безоружны.
— Да это, должно, юный Риган! — крикнул один из них. — Он дал Большому Ти́му в зубы, и тот заснул, как младенец.
— Назад, — сказал я, подняв шпагу.
— А правда, что ты юный Джон Риган, парень? — спросил другой.