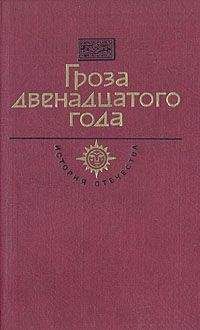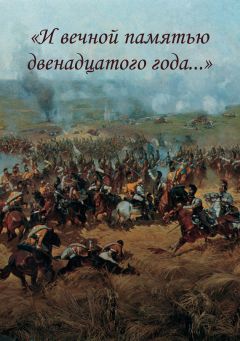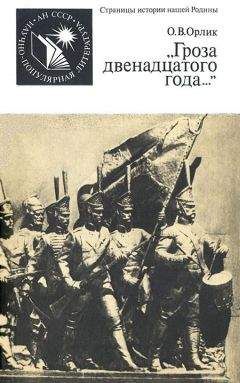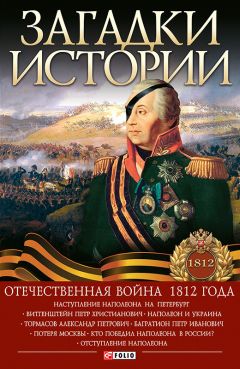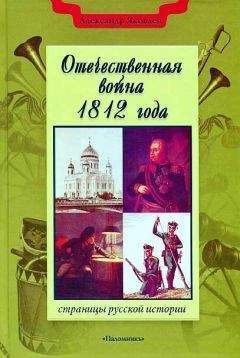Валерий Гусев - Мстители двенадцатого года
Славно. Но что-то вдруг защемило в сердце. Непрошеная мелькнула мысль — не вечен уют старого дома. Слишком он беззащитен от времени и бурь житейских.
Но уже все завертелось. Снимались чехлы, заново натирались полы, менялись огарки на восковые свечи. Лакеи накрывали на балконе чай. Матушка ушла к себе, прибираться к завтраку. Распоряжалась в доме Оленька. Быстро, задорно и толково. Алексей любовался ею. Думал: в какой короткий срок расцвела нескладеха подросток в очаровательную девицу. Резвую и совсем неглупую.
Батюшка распорядился собрать в буфетной закуски. Своей рукой наполнил объемистые рюмки:
— С Богом, Алешка! — смачно выпил, выдохнул, закусил с блюда чем-то, не глядя, что под руку попалось. Аппетит батюшка имел отменный, гвардейский, но гастрономом не был. Кушал обильно и резво, по-солдатски, без меры, все подряд — лишь бы свежо и сытно. — Давай-ка вдогон, за именинницу. Очень на княгиню похожа стала, красавица. Но, не в пример, скромна.
— Так что в том худого? — засмеялся Алексей, чувствуя тепло в сердце и легкий туман в голове.
— В девках бы не засиделась. Осьмнадцатый пошел. — Алексей с Оленькой погодки были. — А там и старость не за горой.
— Какая старость, батюшка? Ты на маменьку взгляни. Все молода и молода.
— Чересчур молода, — буркнул отец и, погладив усы, потянулся вновь за рюмкой. — Однако и я еще не стар. — Хитро улыбнулся, вспомнив что-то приятное. Совсем недавнее.
Из комнаты, из сада, с берега пруда стала собираться к чаю загодя приехавшая молодежь. Смех, возгласы, щебет, чмоканье — и весело, и шумно.
По мостику, из беседки, вел Оленьку под руку молодой человек в легком сюртучке, с полевой гвоздичкой в петлице, с высоким коком над узким лбом, с крючковатым, нависшим носом.
— Что за попугай? — почему-то с неприязнью спросил Алексей батюшку.
Батюшка глянул, покривил под усами рот.
— Мсье Жак. Или Жан, не вспомню. Гагарины выписали. Вроде как будто учителя для Мари.
— И чему же он призван ее учить? — фраза совершенно случайно получилась двусмысленной. И злой.
— Наукам всяким. Там-то, в Европах, умные все. А мы тут, в России, в дураках числимся. Дикими зовемся. Но я уже одного такого умного из дома вышиб. Коленом под зад.
Алексей вдруг как-то неожиданно устал. Сказались заботы и труды командировки, дорога, которую он одолел верхом, радостные чувства, которые его одолели. Отец это заметил.
— Иди к себе. Отдохни. День-то сегодня будет хлопотный. От одних танцев умаешься. А ты кавалер завидный, в уголке стоять не придется. Иди, Алексей, а я скажу, чтобы тебя не беспокоили до обеда.
Алексей благодарно кивнул и по скрипучей лестнице поднялся в мезонин, в свою комнату. Остановился на пороге, окинул ее теплым повлажневшим взглядом. Хотя и не был он здесь больше года, но перемен не заметил — родители строго его «обитель» соблюдали. Все тот же кожаный диван, над которым — пистолеты, его детская сабелька и дедова кираса; то же бюро с фарфоровыми часиками и медными подсвечниками. Часики мерно и уютно тикают — наверняка Бурбонец, аккуратный, как немец, сам заводил их каждый вечер и следил, чтобы были до золотого блеска вычищены подсвечники.
Здесь же, на бюро, статуэтка Бонапарта. Задумчив. В ботфортах, в походном сюртуке. Руки скрещены на груди, треуголка надвинута на лоб. Взгляд устремлен вдаль. Не на Россию ли?
Маменькин портрет в девичестве, на стене против окна; книги, все больше французские романы, но и русских поэтов немало: Ломоносов, Державин, Жуковский.
Алексей сбросил сапоги, прилег на сыгравший пружинами диван, примостил голову на прохладную кожаную подушку. Закрыл глаза. И сразу же всплыло неизвестно из каких далей веселое личико Мари Гагариной. В высокой прическе, с томным взглядом прекрасных глаз.
Гагарины были соседями. Знались со Щербатовыми родством. Машу прочили Алексею в жены. Но обручение как-то затянулось, откладывалось с одного дня на другой, с месяца на месяц. Может статься, виной тому была непонятная батюшкина неприязнь к соседям. Открыто он ее не высказывал, но порой ворчал: «Все у них по-французски, шагу без манер не ступят». Но дело, наверное, было не в том, поглубже. Впрочем, Алексей об этом не заботился. Что ему Гагарины? Ему из них одна Мари нужна. От венца и до конца.
Препятствий к браку не было. Ни от родных, ни от полкового начальства. Правда, прелестная Мари своего решительного согласия словами не высказывала. Одними глазами светилась Алексею навстречу и ручку давала с большой охотой, не торопясь ее отнимать от его нескромных губ…
Алексей задремал, грустно улыбаясь.
«Величественная картина — наша армия на берегу Немана. Историческое зрелище.
Природа свежа, как обычно перед рассветом. И, словно понимая величие момента, окрестности укрылись тишиной. Ни птичьего щебета, ни звериного воя. Чувствую легкий озноб — не от стужи, от волнения.
В два часа пополуночи подъехал Император, в экипаже; ему подвели верховую лошадь. Он, в раздумье, осмотрел нас; в его фигуре не было ничего величественного — только усталость от дороги и какая-то нерешительность. В походном сюртуке, в лосинах и треуголке был похож на большого сумрачного пингвина. (Последняя фраза вычеркнута.)
Легко оказался в седле, поскакал к берегу. Лошадь под ним неожиданно оступилась и упала, сбросив всадника на песок.
— Плохое предзнаменование! — вполголоса, не удержавшись, произнес кто-то из свитских генералов. — Римлянин отступил бы!
Император услышал и, садясь на лошадь, сквозь зубы процедил:
— Я не римлянин. Я — француз!
“Корсиканец”, — наверное, подумалось в этот момент многим.
Император спешился возле самой воды и опять долго стоял среди общего торжественного молчания. Может быть, и не торжественного, но значительного. Протянул назад руку, адъютант подал зрительную трубку. Император долго смотрел в нее, негромко произнес:
— Противник не дремлет. Кажется, кто-то тоже наблюдает нас — что-то сверкнуло из рощи.
После этих слов молчание из значительного стало зловещим. Обстановка требовала разрядки, я взял на себя смелость и не очень ловко пошутил, сказав, что это сверкают пятки удирающего Барклая де Толли. И не ожидал, что генерал Коленкур, из свиты императора, так резко отзовется:
— Здесь не смеются, молодой человек. Здесь настал великий день.
Он протянул руку, указывая на противоположный берег, но смолчал. А мне вдруг показалось, что он едва сдержался, чтобы не присовокупить к своим словам еще и другие: “А там — наша черная ночь”.