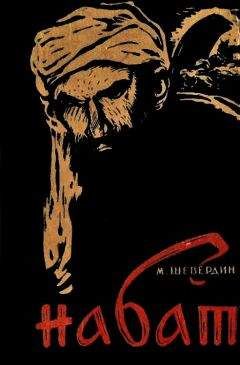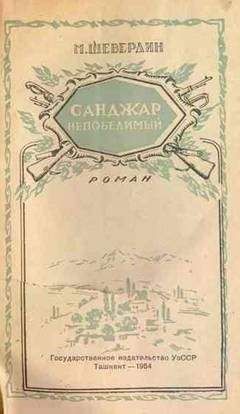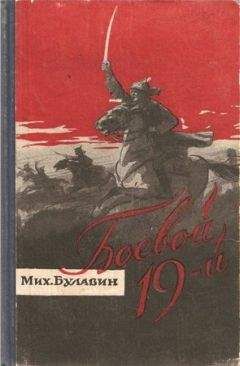Михаил Шевердин - Набат. Агатовый перстень
Ели Сухорученко жирно, спали сладко. Других не трогали.
На рассвете как-то проснулся не вовремя Трофим и встревожился непонятно от чего. Всё будто в порядке. Тихо теплятся лампадки перед киотом, посапывает рядом в соблазнительной наготе сбросившая всё с себя от духоты Агашка, пахнет в комнате ладаном и прелью. И вдруг Трофим сел. Со двора неслась песня. И такая песня, что как-то сразу за сердце взяла. Пел молодой звучный голос:
— Вперед заре навстречу!
Зачарованный Трофим так и заслушался, открыв рот и уставив глаза в темноту.
Внезапно, вторя певцу, грянул хор сотен голосов, да с таким подъемом, да так бойко, что Трофим, натянув брючишки, в шлепанцах выскочил во двор и поглядел из калитки.
Ночная улица гремела и жила. В предрассветном холодке на фоне голубеющего неба двигались нескончаемой вереницей черные силуэты тысяч всадников. Под мерный топот конницы заливались гармони, рвалась в степные просторы бодрая могучая песня.
А всадники ехали и ехали мимо. Шёл эскадрон за эскадроном. Дребезжали тачанки, ухали на ухабах пушки, ржали кони.
Защемило у Трофима под ложечкой. Вздохнул он всей грудью, глотнул запахи степи и ночи, чибреца и конского пота. И стало ему скучно-скучно. Тоска сцепила душу. Куда идут они — конники?
«Засвербило что-то в груди, затрепыхалось, аж невмоготу... аж до горания! Гляжу на казаков — и в ногах зуд!» — рассказывал потом Сухорученко.
А волны конников катились и катились мимо дрожавшего всем телом Трофима, мимо крепкой дубовой калитки, мимо домика Ильиничны. Ровный топот гудел в предутреннем холодном воздухе, вливавшимся в грудь игристым вином.
Как и что случилось дальше, Сухорученко помнит только в тумане.
Тряхнул он своими кудлами, кинулся во двор. Вывел из конюшни крепенького меринка, не взглянул даже на окно, за которым на двуспальной кровати, ничего не подозревая, почивала раздобревшая грудастая жена, забрался в седло и выехал со двора.
Что думал тогда Трофим, бог его ведает. Может, уже и тогда созрела в его еще не совсем заплывших жиром мозгах решение, перевернувшее всю его жизнь раз и навсегда, а может и просто так захотелось ему прокатиться немного на мерине, погулять под звуки лихой песни, подставить лицо бодрящему ветерку.
Выехал Трофим на улицу и примкнул в сумраке нарождающегося утра к взводу конников, и не где-нибудь робко, в хвосте колонны. Нет, втёрся он прямехонько в самую гущу. И поехал...
Поехал, даже не оглянулся на родной дом своей матери мещанки Ильиничны. Так и остались стоять ворота сиротливо открытыми настежь...
Солнце встретил Сухорученко уже далеко в степи. Выглядел он здоровяком, ехал на добром сытом мерине и подпевал конникам густым басом. Воинская часть попалась смешанная, шедшая на пополнение дивизий, поредевших под ударами белоказаков Мамонтова. Командиры иных бойцов видели только впервые, мельком. Никто особенно и не стал спрашивать Трофима, кто он да откуда. Хочет сражаться за Пролетарскую Революцию — и хорошо. Да и не те времена были, чтобы очень спрашивать.
Только спросил командир эскадрона имя да фамилию, да прибавил: «Вот касательно оружия, на винтовку, а клинок сам добудешь... в бою».
Так и стал мещанин Трофим Палыч Сухорученко бойцом Первой Конной... Трудно пришлось с непривычки лежебоке да сладкоежке. Может быть, и вернулся бы он к своей картошечке да перине, но в тот же день, как выехал он на своем мерине из ворот мамашиного дома, вступила дивизия, куда он попал, в ожесточённые бои с мамонтовцами. Легкое, но болезненное ранение так обозлило Трофима Палыча на беляков, что он осатанел и лез в драку уже совсем очертя голову. И через полмесяца никто бы из домашних и соседей из города Хренового не узнал в сожжённом дочерна, худом, жилистом, увешанном трофейным оружием, бывшего обрюзгшего байбака Трофима Палыча, сына мещанки Ильиничны. И хоть стёр себе кожу на ляжках и на заду до мяса Сухорученко, хоть и голова была замотана кровавым бинтом, хоть одна рука висела на перевязи и сверлило в отбитых печенках, но глядел он орлом и пел всё так же зычно. Степь, кони, стрельба, клинок, безумная скачка так завладели помыслами Трофима Палыча, что сумрак горницы, огоньки лампад, белое тело жены редко теперь всплывали в его памяти, да и то только на какое-то мгновение, и тут же пропадали.
Стал Сухорученко скоро храбрым командиром, но не больно дисциплинированным.
И когда сейчас посмотрел ему вслед командир прославленной одиннадцатой, подумал и сказал вновь:
— Беда с ним... Зарывается анархист, закалки пролетарской не хватает.
Но в голосе комдива одиннадцатой была теплота и гордость.
— Товарищи командиры, — продолжал комдив разбор предстоящей операции, — в районе Байсуна части противника засели на сопках, вот здесь... Учтите — сопки в неожиданной близости от нас укреплены. Разведчики Гриневича доносят: повсюду окопы, блиндажи даже. За зиму понарыли себе нор, и с толком. Энверу в опытности отказать нельзя. У него начальники из турецких и, даже говорят, английских офицеров. Голыми руками их не возьмёшь. Основные силы энверовцев сосредоточены против нас под Байсуном и дальше до Денау. Надо отдать справедливость, сукин сын Энвер догадался, в каком направлении наша колонна может нанести главный удар.
— Да ему особенно и догадываться нечего, — вмешался Гриневич. — Сейчас их преимущество в количестве. Их много, нас мало. Но бояться нам этого нечего. Надо только быть начеку, чтобы они не навалились в первом порыве и не раздавили. Малейшая растерянность — и нас раздавят. Ну, а если им дать отпор, вся их хвалёная армия рассыпется. Нельзя забывать: подавляющая масса людей у них идёт на войну не по своей воле. Их гонят силой. Там беднота, батраки, чайрикеры, нищие пастухи — обманутые, одурманенные религией. При первом удобном случае они окажутся с нами, потому что ненавидят своих баев, арбобов, беков. С другой стороны, Энвер пустил в свое войско много всякого сброда: разбойников, конокрадов, контрабандистов... Пока есть что грабить, они храбрецы... Малейшая опасность — и они в кусты. Энвербей, не сомневаюсь, знает слабые стороны своей грабьармии, попытается брать нас наскоком. Он держит свои части в кулаке, боится, что если только растянуть их, они разбегутся, как тараканы. Поэтому он и держится дюшамбинского тракта, дороги царей.
— Вот дорогу царей мы и превратим в дорогу победы, — проговорил комдив, — здесь Энверу и голову сломить. Ломать начнет Сухорученко... Эх, кажется, начался...
Из глубины ночи рассыпалась дробь пулемета...