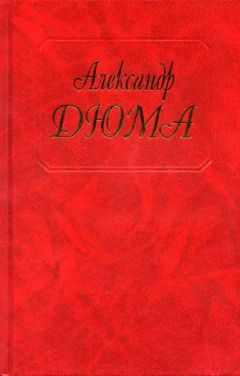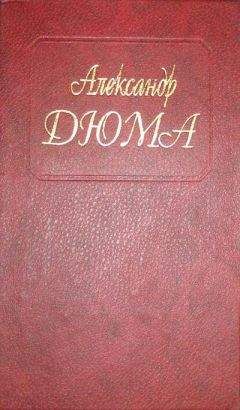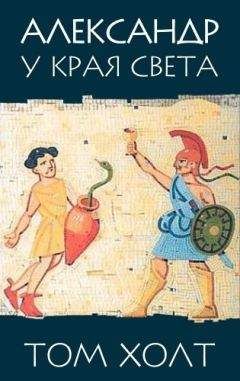Сальтеадор - Дюма-отец Александр
Спящая вздрогнула, открыла глаза и вскрикнула; изумленный молодой человек вскочил, уронив плащ, — в свете ночника было видно, что одет он изысканно, в костюм для верховой езды.
— Дон Фернандо! — удивилась молодая девушка и натянула покрывало до подбородка.
— Донья Флора! — прошептал пораженный молодой человек.
— Как вы тут очутились в такой поздний час? Что вам надобно, сеньор? — спрашивала девушка.
Не отвечая, Сальтеадор задернул тяжелые занавески, свисавшие над постелью, они соединились, и донья Флора словно очутилась в парчовом шатре. Затем он отступил на шаг, и, встав на колено, произнес:
— Да, сеньора, я пришел сюда, и это так же верно, как и то, что вы прекрасны, что я люблю вас, пришел сказать прости, последнее прости моей матери и навсегда покинуть Испанию.
— А зачем же вам навсегда покидать Испанию, дон Фернандо? — спросила девушка из своей парчовой темницы.
— Потому что я беглец, отверженный, преследуемый, потому что я остался жив чудом, потому что я не хочу, чтобы мои родители, и особенно мать, в спальню которой каким-то образом попали вы, были опозорены, увидев, как их сын поднимается на эшафот.
Стало тихо, казалось, слышно только, как колотится сердце девушки, но вот не прошло и минуты, как занавеси постели тихонько колыхнулись, раздвинулись и белая рука протянула ему какую-то бумагу.
— Читайте! — раздался взволнованный голос.
Дон Фернандо, не осмеливаясь прикоснуться к девичьей руке, схватил бумагу и развернул ее, рука доньи Флоры спряталась, оставляя между занавесями щелку.
Молодой человек, по-прежнему преклонив колена, нагнулся к ночнику и прочитал: «Да будет известно всем, что мы, король Карл, милостью божьей владыка Испании, Неаполя и Иерусалима, даруем дону Фернандо де Торрильясу полное, безусловное прощение всех прегрешений и проступков, совершенных им…»
— О, благодарю! — воскликнул дон Фернандо, на этот раз поцеловав руку доньи Флоры. — Дон Иниго сдержал свое обещание, а вам, подобно голубке из ковчега, поручил протянуть жалкому пленнику оливковую ветвь.
Донья Флора покраснела, тихонько высвободив руку, и со вздохом произнесла:
— Увы, читайте дальше!
Удивленный, дон Фернандо устремил глаза на бумагу и продолжал читать: «Дабы тот, кто получил помилование, знал, кому он должен хранить благодарность, скажем, что ходатайствовала о нем цыганка Хинеста, которая завтра удаляется в монастырь Анунциаты и после окончания послушничества примет монашеский обет.
Дело сие в нашем дворце Альгамбре 9-го дня июня 1519 года летосчисления Христова».
— О Хинеста, душа моя, — пробормотал Сальтеадор, — ведь она обещала это.
— Вы жалеете ее? — спросила донья Флора..
— Не только жалею: я не приму ее жертвы.
— А если б эту жертву принесла я, приняли бы вы ее, дон Фернандо?
— Конечно, нет. Если измерять жертву тем, что человек теряет, вы — богатая, благородная, почитаемая, — теряете гораздо больше, чем скромная девушка-цыганка — без положения, без родных, без будущего.
— Вот она, право, и будет довольна, что вступает в монастырь, — быстро сказала донья Флора.
— Довольна? — переспросил дон Фернандо, покачав головой. — Вы уверены?
— Она сама говорила, что для бедной девушки без дома, без рода и племени, которая просит милостыню на проезжих дорогах, монастырь — просто дворец.
— Вы ошибаетесь, донья Флора, — возразил молодой человек, опечаленный мыслью, что дочь дона Иниго, несмотря на свою душевную чистоту, унизила его верную Хинесту, которую, очевидно, считала своей соперницей. — Вы ошибаетесь:
Хинеста не нищая, быть может, после вас она одна из самых богатых наследниц Испании, Хинеста не без рода и племени, она дочь, и дочь признанная, короля Филиппа Красивого. Да и для простой цыганки, дочери вольных просторов и солнца, феи гор, этого ангела больших дорог, даже дворец был бы темницей. Судите же сами, чем для нее станет монастырь… О донья Флора, донья Флора, вы так прекрасны, вас так любят, зачем же унижать любящую, преданную девушку!
Донья Флора, вздохнув, промолвила:
— Значит, вы отказываетесь от помилования, дарованного вам благодаря жертве преданной девушки?
— Человек может совершить низкий поступок, когда чего-нибудь страстно хочет, — отвечал дон Фернандо, — вот и я боюсь, что свершаю низость, оставаясь с вами, донья Флора.
Молодой человек услышал, что девушка облегченно вздохнула.
— Значит, я могу известить о вашем возвращении донью Мерседес?
— Я приехал сообщить ей о своем отъезде, донья Флора, а теперь скажите матушке, что мы увидимся завтра, вернее, уже нынче. Вы — ангел, приносящий счастливые вести.
— Итак, до новой встречи, — промолвила донья Флора, и во второй раз ее белоснежная рука показалась между занавесями.
— До новой встречи, — ответил Сальтеадор, вставая и прикасаясь губами к ее руке с таким благоговением, будто то была рука королевы.
Он поднял свой длинный плащ, закутался в него и, склонясь в низком поклоне перед ложем с задернутыми занавесками, будто перед троном, вынул из кармана ключ, открыл дверь, постоял, чтобы еще раз взглянуть на донью Флору, следившую за ним через щелку, затворил дверь и словно тень исчез во мраке.
XXIII. БЛУДНЫЙ СЫН
Наступил день, и в доме дона Руиса де Торрильяса воцарилось праздничное ликование, все дышало радостью.
Донья Мерседес объявила старым слугам — не многие с ними остались после разорения дона Руиса и были так же привязаны к дому, как и в дни его процветания, — донья Мерседес объявила, что есть вести от дона Фернандо, что молодой господин нынче возвратится после долгих странствий, пробыв вдали от Испании почти три года.
Ну а донья Флора стала вестницей счастья, поэтому донья Мерседес с утра обходилась с дочерью дона Иниго как со своей родной дочкой и осыпала ее поцелуями, предназначенными для дона Фернандо.
Часов в девять утра дон Руис, его жена и Беатриса — старая служанка доньи Мерседес и кормилица дона Фернандо — собрались в нижней зале, где временно устроились хозяева дома.
Донья Флора спустилась сюда с утра, спеша сообщить о возвращении дона Фернандо, умолчав о том, каким образом она узнала о новости, и осталась словно член семьи.
Донья Флора и донья Мерседес сидели рядом. Донья Флора держала руку доньи Мерседес, припав головой к ее плечу. Обе тихо разговаривали. Однако какой-то холодок появлялся в тоне доньи Мерседес каждый раз, когда голос девушки при имени Фернандо выражал не сочувствие, не Дружеские чувства, а нечто большее.
Дон Руис прохаживался по комнате, склонив голову на грудь; его длинная седая борода выделялась на черном бархатном камзоле, расшитом золотом; время от времени, когда на мостовой раздавался звук подков, он поднимал голову и прислушивался: брови его были нахмурены, взгляд мрачен. Его лицо составляло удивительный контраст с лицом доньи Мерседес — оно словно расцветало от прилива материнской любви, этого всесильного чувства, — и даже с лицом старой Беатрисы, примостившейся в углу залы; старушка предвкушала радость встречи, мечтая увидеть дона Фернандо как можно скорее, но из скромности держалась на расстоянии ото всех. Лицо дона Руиса не выражало радости, радости отца, который для блага любимого сына пожертвовал всем своим состоянием.
Чем же объяснялась суровость дона Руиса? Может быть, он укорял, имея на это право, молодого человека, вопреки настойчивости, которую проявил, добиваясь помилования сына? Была ли тут иная причина, тайну которой он никогда и никому не открывал?
Всякий раз, когда дон Руис, заслышав топот копыт, доносившийся с улицы, поднимал голову, женщины умолкали, прислушивались с бьющимся сердцем, не сводя глаз с дверей, а Беатриса бежала к окну, надеясь быть первой и крикнуть госпоже: «А вот и он!»
Всадник проезжал, топот копыт удалялся. Дон Руис снова и снова шагал по комнате, уронив голову на грудь и вздыхая. Беатриса отступила от окна, покачивая головой, и весь ее вид говорил: «Нет, это не он», — а обе женщины возобновляли свой негромкий разговор.