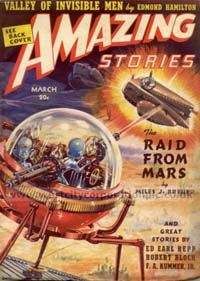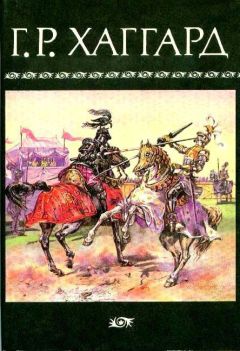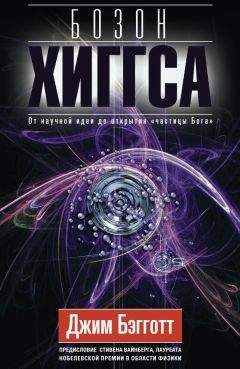Антон Дубинин - Катарское сокровище
Этой ночью со сном в замке Мон-Марсель обстояло худо. Оставшиеся франки, зевая, играли в кости на кухне; Пейре Маурин, избегая их общества, одиноко сидел у печи, уронив голову на руки. Все думали, что он дремлет — однако тот дергался от каждого шороха, вслушивался в разговор на незнакомом и ненавистном языке, чтобы хоть чем-то себя развлечь. Рыцарь Арнаут де Тиньяк, сподвижник Раймона Тренкавеля и убийца священника, запертый в собственной спальне уже третий день, воспользовался общим ночным бодрствованием — и при звуке шагов Гальярда по коридору заколотил изнутри в дверь, требуя себе исповедника. Учитывая, что за три дня тот, снедаем покаянием, уже успел исповедаться дважды, больной монах не спешил прийти к кающейся душе на помощь, но обещал наутро прислать ему Аймера. Добрый Люсьен, который не был еще рукоположен, вызвался посидеть с ним и поговорить на духовные темы; их приглушенные голоса доносились из-за двери, убаюкивая единственного спящего человека в здании: франка Этьена, чья смена пришла караулить узника. Этьен сидел на толстом чепраке, брошенном у стены, и тихо всхрапывал, когда голова его падала на плечо — однако звук собственного храпа всякий раз нарушал его беспокойный сон, и он вздергивал голову обратно. Брат Гальярд, твердо намеренный соснуть хотя бы пару часов, лежал на своей жесткой кровати и вслушивался во все эти шепоты, всхлипы, вздохи и хрипы, наполнявшие каменный мешок замка. Ночная жизнь. Гальярд твердо знал, что при успехе завтра поспать не придется ни минуты. Спать он хотел — не было такого дня за неделю процесса, когда ему не хотелось бы спать, когда глаза с розоватыми белками не смыкались бы, стоило монаху ослабить волю, державшую веки поднятыми; однако уснуть мешала головная боль. Отчего же так сильно, Господи Иисусе, будто каждая мысль болит… За нынешние грехи и за прошлые, не иначе. Гальярд намочил из кувшина, за неимением другой тряпицы под рукой, край собственного рукава рясы и уложил руку так, чтобы мокрое приходилось на лоб. Вспоминал нежную историю из Пруйля — как сестра по имени Бланка исцелилась от страшных головных болей заступничеством Гильема-Арнаута, мученика Христова. А всего-то призвала сестра его имя и приложила к больному месту его хабит. Окровавленный доминиканский хабит, привезенный из Авиньонета с радостным почтением, как прекрасная реликвия… реликвия… сокровище…
Но за своего бедного сына Гальярда отец Гильем сейчас не хотел заступаться. Хотел, чтобы тот бодрствовал и уже на земле получил хорошее покаяние за сегодняшние грехи… или просто… почему-то медлил поспешить на помощь…
То ли из-за холодной тряпки на лбу, то ли от постоянного призывания имени наставника-заступника головная боль малость отступила. Брат Гальярд задремал — уже начал проваливаться в сладостный беззвучный колодец — как вдруг стук двери и голос Аймера стремительно вернули его к бытию. Он открыл глаза и чуть не вскрикнул от ужаса — холодная рука мертвеца едва ли не задевала пальцами его висок. Через мгновение монах уже узнал собственную кисть, закинутую перед сном за голову и совершенно онемевшую в неудобной позе; чтобы сдвинуть ее с места, Гальярду пришлось поднять правую руку левой. Так, растирая ее и медленно пробуждая в пальцах живое покалывание, он сидел на кровати и старался больше понимать из быстрой и чрезвычайно важной Аймеровой речи: готово, отче, все сделано, старик доставлен связанным, старик внизу, в пещере был он один… один старик и с ним — окованный серебром сундучок.
— Все в порядке? Все целы? — еще не умея толком слушать, спросил Гальярд, звуком собственного голоса стремясь пробудить спящие мозги.
— Да, отец, в полном порядке, только ноги мы с братом францисканцем малость ободрали, ну и чаща там, я вам скажу — сплошные колючки! Девица, то есть женщина, малость было заплутала в темноте — но вышли быстро; еще она в пещеру не пошла, должно быть, старика побоялась; сейчас сидит внизу, брат Франсуа ей велел вина принести. Старик не сопротивлялся вовсе, да куда ему, старому, худому, против пяти солдат, не глупец же он, хоть и еретик. Не пойму, как он в такой холодине выживал: в пещере у него немногим лучше, чем в погребе — привык, видно! Но все-таки, скажу я вам, отче — сундук-то какой! Не иначе как…
— Сундук? — Брат Гальярд мигом поднялся, не сразу поняв, что голова за время дремоты успела пройти. — Без меня не открывали, я надеюсь?
— Что вы, отец, я б не дал! Вы же главный инквизитор, в конце концов!
Значит, и правда четвертый… Скорее всего — четвертый… Отец Гильем Арнаут, отец Доминик, вот это добрая новость! Спеша вниз по холодной лестнице и молясь на ходу, даже самому себе брат Гальярд не признавался, что мысль о сундуке торопила его не меньше, чем мысль о старике. Аймер хромал за ним, морщась на каждом шагу: сабартесские колючки основательно порвали ему кожу, и как можно было отправляться в лес в одних сандалиях — отец Франсуа даже через обмотки поранился, что уж говорить о голых ногах. Но считать раны время еще не пришло. Над Мон-Марселем бледно занимался рассвет, наступал, быть может, великий день, день важной находки, поместной победы, день старичка и сундучка.
9. День болезней брата Гальярда
Не спать ночь тем легче, чем вы моложе. А у брата Франсуа под глазами набухли темные мешки, плечи изрядно ссутулились. Правда, глаза из темных кругов сияли едва ли не юношеским восторгом. Взяли! И еретика, и… то, что он хранил. Давно брату Франсуа де Сен-Тибери не приходилось чувствовать себя настолько молодцом! Он суетился вокруг сундука — «Так, так, сюда заноси!» — как наседка над свежеснесенным яичком; как только с жилистой шеи старика был срезан шнурок с ключом, францисканец тут же переместил ключ себе на пояс и нетерпеливо похлопывал по бедру каждые несколько секунд, проверяя, уж не исчез ли он случаем. Не растаяло ли, как видение, обетование невиданного инквизиторского успеха.
Гильеметта мышкой шмыгнула на замковую кухню, где ее встретил заботливый Люсьен, подогревавший вино для всех усталых и озябших. Лицо молодого монаха, вызывавшее доверие у многих, и ее побудило нашептать испуганно, что надеется она, ох как надеется — старик Совершенный ее не узнал. «Чего ж тут бояться. Вас Святая Церковь защищает», — простодушно увещевал Люсьен, забрасывая в дымящийся котелок гвоздичные цветки. Однако Гильеметта все никак не могла успокоиться, жалась к мужу, со страхом оглядывалась на стену — будто страшный старик мог разглядеть ее через два толстых слоя камня и пустую залу между ними. До чего ж он их тут напугал, этот еретик, с легким любопытством думал Люсьен; он видел, как шарахнулся Пейре от дверей, куда вводили связанного с мешком на голове, как вжался в стену замковый конюх, когда франки под присмотром брата Франсуа вносили сундучок. Они тут не только старичка, еще и сундучка его боятся — мысль в обычное время вызывала бы у него улыбку, но этой ночью, такой тревожной, с такими длинными тенями и заведомой жестокостью происходящего — как-никак, человека взяли под стражу, чтобы судить и осудить — стерла улыбки со многих лиц. Даже франки во главе с капитаном — который, казалось бы, всегда ухмыляется, когда не злится — и то переговаривались шепотом, искоса взглядывали на странного своего пленника, на странную свою добычу. Небольшой деревянный сундук, окованный железом. Темный. Толстостенный. Формою похож на младенческий гробик. Внутри может оказаться все, что угодно… от запертого магией злого духа до ведовских трав и жабьих костей. Имбер де Салас из Монсегюра говорил на допросе о «pecuniam infinitam», огромном количестве монет; однако как-то слабо верилось в такую простую разгадку даже и самим инквизиторам, чего ж говорить о мирянах. Ясно дело, катары! Кто их знает, что они сокровищем зовут?