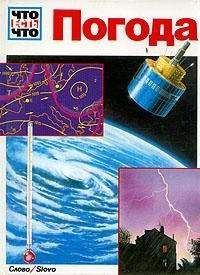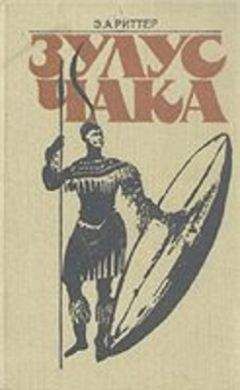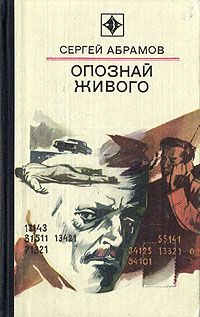Емельян Ярмагаев - Возвращающий надежду
— Но почему, — сказал Бернар, — человек человеку не может помочь? Почему так дивно устроен мир, что даже протянутая дружески рука встречает острие копья?
— А потому это, брат, — сказал Рене, — что бывают времена, когда людей слишком часто обманывают, предают и унижают, и они насмерть ожесточаются. Они уже не могут допустить и мысли о чьей-то порядочности и бескорыстии, ибо это охладит их негодование и расшатает твердыню их гнева. И будь ты честен, как собственная шпага, у людей ты будешь пользоваться таким же доверием, как собака в мясной лавке. Даже если тебе и удастся отменить габель в своей округе, мужики будут точно молоко на огне: чуть что — и вскипят. Что поделаешь! Одни рождаются с седлами на спинах, другие — со шпорами на ногах.
И Одиго поник светлой головой, так как он любил Рене и привык ему верить.
— Друг, — сказал он, — позволь задать тебе еще вопрос. Вот ты пробил мечом сосенку… А ведь она живая. Чувствовал ли ты, что ей больно?
< Рене посмотрел на него с тупым недоумением. — Дереву-то? В человека воткнешь эту булавку, а тут… — Я и хочу знать, — перебил Бернар, — способна ли твоя душа чувствовать чужую боль или она подобна этому клинку. По небритому лицу Рене медленно распространилась снисходительная улыбка. — Я сделан не из стали, — буркнул он. — Мне случалось щадить врага, если он, сукин сын, добрый католик, да еще дал за себя выкуп… — Как бы решившись наконец вразумить Бернара, Рене придвинулся к собеседнику и вперил в него тяжелый взгляд. — Вся штука, видишь ли, в том, что я никогда не думаю о разных вещах сразу. Солдатское ремесло требует, я бы сказал, одномыслия. Одна мысль, каждая на свой день и час, — не две и не три! Пусть и не ахти какая она, эта мыслишка, скажем, о том, надел ли твой противник буйволовый жилет под кирасу или позабыл его по рассеянности дома. Но ты держи в голове только ее одну, гони прочь все остальное, как мародеров из лагеря, да знай коли под кирасу! Ну, а примешься еще раздумывать о детишках или о старенькой маме врага — тут тебе и капут! — Как же не думать, что у него тоже есть мать? Разве люди отделены друг от друга непроницаемой стеной? Разве нельзя влезть в кожу другого — тех же Жаков, например? — Вот-вот, — сказал Рене, назидательно подняв палец, — от этого и погибают. Опасные мысли. Очень опасные! Скажи, пожалуйста, ради чего это я должен лезть в шкуру какого-то там бездельника Жака? Да пропади он пропадом, мне и в своей хорошо! А продырявят ее, ну что ж, на войне, как на войне! Он опрокинул в рот стакан вина, вытер губы рукавом и глубокомысленно добавил: — Человеку нельзя думать о многом: от этого чесотка начинается, парша и вошь испанская заводятся! Вон в твоей голове целый батальон мыслей бродит, а что толку? Я не цыганка, — лениво продолжал Рене, наливая себе новый стакан, — но предсказать твою судьбу берусь. Что дашь за гаданье? Вначале ты, может быть, разгонишь еще какую-нибудь толпу солдатни… меня ты надул просто потому, что я не рассчитывал иметь дело с собственным учеником. Так. Затем его величество решит, что это зашло слишком далеко, и пришлет настоящую воинскую часть. Вот тогда Жак Простак скажет: «Мне надоело драться и умирать, мне пора сеять и жать». Городское отребье закричит, что ты сеньор и, следовательно, изменник. И венцом всего окажется та пика, на которой будет красоваться твоя глупая молодая голова! — Так якорь никогда не встанет со дна, Рене? — Железо тонет навсегда. Всплывает только дерево. Будь деревом, сынок, раскидистым мощным деревом, под сенью которого взойдут крепкие молодые побеги дома Одиго… Послушай, для чего ты взял меня в плен? Чтобы не давать мне спать? Сказав так, он тут же сбросил с себя буйволовую куртку, расстелил у очага плащ и улегся прямо на полу, головой к огню, потому что не любил спать в постели, особенно если выпьет лишнее. — Марго, — шепотом заметил Бернар, когда Рене испустил богатырский храп, — ведь ты так и не сказала мужу о вашей бедной дочке! — Не посмела, — ответила Марго, и слезы потекли по ее пухлым щекам. — Солгала, что отослала девочку в соседний бург ученицей к тетке Керси, кружевнице. * * * Пять тысяч крестьянского войска встало под стены Старого Города. На левом и правом флангах тускло мерцали мушкетные стволы, опущенные на сошки. Кое-где блестели каски и кирасы. Над серой, желтой, коричневой массой курток и капюшонов, надвинутых на самые брови, так как весна была суровой, колыхались на длинных пиках знамена с изображением Георгия Победоносца, попирающего дракона, и святого Николая, покровителя бедности, и святого Мартина, что отдал половину своего плаща нищему. Позади темнел густой лес пик, глеф, копий и вздымались к серому небу высокие столбы дыма. В руках некоторых стрелков были старинные арбалеты, опущенные вниз, в арбалетные скобы были вдеты носки башмаков, чтобы натянуть тетивы разом, по единой команде. На переднем же плане стояли мальчишки барабанщики в лихо сдвинутых набекрень колпачках, над барабанами наготове повисли палочки. А впереди всего войска, прямо напротив городских ворот, на коне возвышался Бернар Одиго. На генерале Армии Страдания были кираса, высокие до бедер сапоги и длинный темный плащ. Ветер играл перьями его широкополой шляпы, теребил концы белого воротника. Властная решимость, сознание командирского могущества было на его лице, и никто бы в ту минуту не подумал, что он способен сомневаться и сожалеть. Подобрав поводья, он неподвижно сидел на своем коне и ждал. Когда на башне святого Августина пробило пять, генерал поднял руку в перчатке — и по всему переднему ряду разнесся душераздирающий скрип: это натягивали тетивы на арбалетах. Вдоль ряда мушкетов замелькали огоньки фитилей, и лес древков грозно накренился, готовясь упасть. Барабанщики, глядя на командира, уже взмахнули палочками, чтобы обрушить на туго натянутую кожу скачущую дробь… Но как раз в эти секунды завизжали петли городских ворот, за ними заскрежетала тяжелая поднимаемая вверх решетка, и из ворот выехала группа всадников. Сержант мэрии, выехав вперед, зычно провозгласил: — Граф де Шамбор де Шампиньи де Лябр, кавалер ордена Святого Людовика, наместник губернатора этой провинции, и прочая, и прочая, предлагает прислать к нему для переговоров, уточнения и прояснения командира по имени Бернар, называемого иначе генералом Армии Страдания! Трижды протрубили герольды свой призыв, прежде чем им ответили из лагеря повстанцев. А там происходило следующее: ткач Клод, который находился среди крестьян, крикнул в лицо Одиго: — Ты заранее сговорился с папашей своим, чтобы нас опутать и предать! Одиго спокойно возразил ему: — Со дня приезда моего в деревню я не был в Старом Городе. — Это сущая правда, — подтвердил старый Жак Бернье. И у него были на то основания, ибо ему доносили о каждом шаге Одиго. — Сеньор был с нами все время и, хвала Иисусу, одержал великую победу в лесу. — Все равно он предаст, и я его одного не пущу! — бушевал ткач. — Угомонись, кум! — посоветовал Жак. — Ты уже слышал: его сиятельство согласен говорить только с нашим генералом и больше ни с кем. Езжай, — сказал Жак Бернару, — мы будем ждать. Пусть откроют ворота, не то запоют стрелы, и жарко станет городским совам. А для твоей охраны и безопасности — вот они, мои дурни жаки! Среди братьев Бернье Одиго заметил третьего парня, лицо которого было скрыто широкополой шляпой, и мимолетно удивился: «Что за новый жак?» Затем тронул коня шпорами и выехал навстречу герольдам, братья Бернье сопровождали его с мушкетами на плечах. Всадники из мэрии, окружив их, поскакали с ними в город. Одиго привели к ратуше и велели спешиться. По ступеням нового здания рядом с ратушей поднялся Одиго, и алебардщики разомкнули перед ним свои скрещенные алебарды. Жаки остались у дверей. Лакей провел Бернара в гостиную, отобрав шпагу. Бернар увидел стены, обитые розовым шелком, и тот же шелк на гнутой, красного дерева мебели. На блестящем, как зеркало, паркете, отражались его забрызганные грязью сапоги. В синем бархатном камзоле, в открытой на груди белоснежной кружевной рубашке сидел спиной к нему отец и писал. Он ничуть не изменился и не постарел. Белая тонкая рука его уверенно скользила по бумаге. «Вот мой отец, — думал Бернар. — Но это только слово, обозначающее нашу родственную связь. В сущности, я не знаю этого дворянина, как и он — меня. Во всяком случае, что-то не видно, чтоб он спешил прижать меня к груди, обливаясь слезами… Как с ним держаться? Э, самый верный компас — простота. Я здесь не по семейным делам. Я посол, черт возьми. А там будет видно». И он слегка звякнул шпорами, приглашая обратить на него внимание. Одиго старший вздрогнул, бросил перо и резко обернулся. Его бледно-голубые, слегка навыкате глаза остановились на сыне Он долго рассматривал его пристальнейшим образом. — Вы действительно мой сын, мсье? — хрипло сказал де Шамбор. Он потер рукой горло и прокашлялся. Бернар поклонился. — Непостижимо, — безрадостно сказал граф. Поднял перо, осмотрел его и швырнул снова, точно в нем заключалась вся непостижимость. — Значит, мадам Антуанетта не ошиблась… Жаль. Что же вы стоите? Садитесь. Одиго взял стул и сел. Отец встал и начал ходить по комнате. — Мало того, что вы дезертир, мсье, — начал он, — вы еще и дурак. Совершенный осел! Кой черт толкнул вас, например, на штурм этой старой голубятни, важно именуемой замком Шамбор? У меня их шесть, и не таких. Затем вы глупейшим образом оскорбили мою жену и в пьяной драке убили ее братьев. Предвижу тяжелые объяснения со сьером Артуром… Наконец вы дошли до того, что ваше имя чудовищно вплетается в низкие дела черни! Нечего сказать, разумное поведение! «Как он неприятно брызжет слюной, — подумал Одиго. — Впрочем, трудно было ожидать нежного приема». И он сухо сказал: — Сударь, обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что я здесь не от себя. Буду краток: вы откроете ворота или их откроет штурм. Я говорю от имени отчаявшихся людей, которые… — Те-те-те! — ядовито протянул наместник губернатора. — У меня в столе это великолепное «Послание к парламенту», этот образец мужицкого красноречия, от него разит потом, но я выучил его наизусть. Воображаю, как ты потрудился, переводя на французский язык блеянье овец и мычание коров! — Эти овцы и эти коровы, мсье, у ворот. Они вооружены. Я не хочу крови. — Представь, и я тоже! — насмешливо сказал граф. — Терпеть не могу свар между французами. Я — за мир! И он убедительно поднял вверх свои красивые руки. Одиго не нашелся, что на это сказать. — В Париже полагают, — начал старший Одиго совсем иным, деловым тоном, — что я Гарпагон на мешке с золотом. «Денег, денег, дайте нам денег!» — вот одно, что я слышу из Парижа. Мне же известно лучше, чем кому бы то ни было, что у простонародья за душой нет ломаного су, и я докладывал о том многим лицам. Ну, и королю тоже. Все несчастье в том, что у нас нет короля. — Как нет короля? — Так, нет. Есть первый министр, есть сюринтендант. Наконец, есть мадам де… есть девица де… и кто угодно, только не король. С кем прикажешь иметь дело? Я пишу королю — мне отвечают министры, и я узнаю легкий почерк мадам или девицы имя рек. Я прошу солдат, чтобы усилить таможенные посты, — мне отвечают, что войска его величества в Голландии и Испании. В результате безмерно усиливается контрабанда вином, наши виноторговцы разорены, они проламывают днища у бочек, и драгоценное французское вино хлещет в грязь. В грязь текут наши кровные французские деньги — ты слышишь это, Бернар? Он остановился и посмотрел на сына в упор. — Хотите помочь Франции? Уведите эту толпу, обещайте ей, что хотите, и возвращайтесь. У меня уже готов офицерский патент, осталось вписать ваше имя — и вы лейтенант королевских драгун. Разве не ради этого вы вели свою рискованную игру? Он выдвинул ящик стола и показал лист с гербом. Бернар встал. — Я жду еще час, — сказал он. — Со мною пять тысяч. Будь у вас столько же патентов, ими вы не остановите нас. Старший Одиго быстро и удивленно окинул сына взглядом. — Вот как! — сказал он металлическим голосом. — Да пойми ты, несчастный мальчишка, есть одно великое целое — Франция! И пусть на своем клочке земли сдохнут от натуги Жан, Жак или Пьер, Франция будет жить, ибо Франция — это будущее тех же Жаков и Пьеров! Не они, так их дети увидят новые цветущие поля. Как смеешь ты, часть, идти против целого? Кто стоит за тобой? Не этот ли Жак Носильщик, Жак Дровосек и Пахарь? Знай: цвет нации, лучшие умы, первые шпаги, доблесть и честь Франции — против тебя! — До сих пор, вы правы, было так, — возразил Бернар. — Но однажды случится иное. Мудрецы уйдут просвещать невежд, отважные вынут мечи, чтобы защитить безоружных и робких, могучие повернут коней, чтобы поднять упавших в грязь. Это так просто, и до этого один шаг. Не знаю, почему этого еще не произошло. Что ж? Пусть начну я! И он невольно потянул свою портупею, думая, что рукоять шпаги окажется у него под рукой. Отец помолчал. Потом подошел к столу и, не присаживаясь, набросал несколько слов. — Это вы отдадите коменданту или мэру, — сказал он холодно. — Сейчас у меня, к сожалению, нет воинской силы, и я избираю благоразумие. Но вы сами лезете в ловушку. И я не поручусь, что стану спасать твою длинную шею от петли, когда положение изменится. Всего хорошего! 19 Когда дверь губернаторской резиденции захлопнулась за Бернаром, он увидел у крыльца своих жаков, за ними, в отдалении, молчаливо ожидающую толпу, а также группу пожилых людей важного вида, очевидно, богатых буржуа, в длиннополых кафтанах и круглых шляпах с перьями на дворянский манер. Он остановился — шляпы слетели с голов, и один из пожилых обратился к нему с чрезвычайной учтивостью: — Позволительно ли спросить вас, благородный сеньор Одиго, к какому соглашению пришли вы с его сиятельством? Одиго показал ему бумагу с графской подписью. — Сложное положение, — вздохнул член магистрата, косясь на бумагу. — Мы, конечно, рады, что обошлось без кровопролития… А еще осмелюсь ли узнать, с какой целью сюда, в город, пришла вся округа с оружием и под вашим командованием? — Об этом потом, — сухо сказал Одиго. И отстранив члена магистрата, обратился к толпе: — А вы чего хотите, добрые люди? Среди толпы прошло какое-то движение. Нерешительно зашевелился детина в порыжелом колпаке. — Нам бы касательно габели узнать, высокое ваше генеральство. Ждем с зари. А то за игральные карты — и то, понимаете, плати! — А ворота мы откроем! — закричали из толпы. — Не сомневайтесь! Собственными башками распахнем! — Вопрос в том, — авторитетно выступил некто в черном переднике, с виду слесарь или кузнец, — как его сиятельство насчет элю изъявляет? Беспокоимся! — Не хотим элю! — подхватили возмущенные голоса. — Глотки скорее дадим себе перерезать! Ободренный поддержкой, детина в колпаке вдруг сорвал его с головы и отчаянно хлопнул о землю: — Не желаем элю, габелёров и всяких прочих! Еще с десяток колпаков ударилось о землю. Кто-то в исступлении стал рвать на себе волосы. — Вместо одного су с яблок — десять экю! — послышались возгласы. — Горе нам, несчастным! Где их взять? Одиго увидел, что сделался центром стихийно возникшего уличного митинга. В него впились сотни глаз, к нему взывали, его теребили за край плаща, за руки, за плечи. Кто-то, расталкивая соседей, рвался к нему с налитыми кровью глазами, кто-то навзрыд плакал, размазывая по лицу слезы ладонью, кто-то махал колпаком перед его носом и божился страшными клятвами. Молча и грустно стоял Бернар перед этой внезапно открывшейся плотиной народного возмущения и скорби. Не так он рисовал себе возвращение надежды. Но вот он вскочил на ступень дома и поднял вверх шляпу. Когда приутихло, Одиго четко сказал: — Габели не платить! — Не платить! — повторили в толпе с восторгом. — Вы слышали: он сказал — не платить! Одиго продолжал: — Никаких налогов, кроме тальи и тальоны! Сбор — прямо в королевскую казну. Никаких откупов! Деньги — в опечатанную карету и прямо в Париж. Вы слышите, французы? — А налог на вино? — выкрикнули из толпы. — Не платить! Пусть лучше его хлебают свиньи. — Если я, положим, уголь разношу… Тише, дайте сказать! И берут с меня, положим… — Дай-ка мне! Эй, генерал: за перевоз тоже берут. Как — платить? — Нет! — крикнул Одиго, воодушевляясь. — Посудите, какой это доход? Два су в день! Не плати! — А на свадьбы, на похороны, на крестины? На окна? — Вы слышали: не платить! — надрывался Бернар. — Эй, кто там шумит? Будем платить королю, но не откупщикам. Вон откупщиков! — загремел Одиго, придя в такое же исступление, как и слушавшая его толпа. И неизвестно, что такое еще отменил бы он в своей великой душевной простоте, если б в задних рядах не затянули: С волками жить — по-волчьи выть! Чем голодать да слезы лить… Это была «песенка Одиго», неизвестно какими путями распространившаяся уже и в городе, но с особым, приделанным к ней припевом: «Лянтюрлю, лянтюрлю!» — что означало: не выйдет! Припев подхватили все до последнего человека, и толпа, сначала переступавшая в такт тяжелыми башмаками, постепенно пустилась во что-то напоминающее общий пляс. Одиго стоял, тяжело дыша от волнения, и улыбался, и слезы текли по его лицу. Плясавшие то и дело подбегали к нему, без церемоний обнимали, целовали, протягивали фляги с вином, требуя, чтобы он отпил хоть глоток. И Одиго отхлебывал из каждой фляги. Голова его, впрочем, и так шла кругом. Он уже видел всеобщее счастье обездоленных, он уже занесся до того, что мнил себя освободителем целой нации… — Вы забыли о су с ливра, — укоризненно сказали ему на ухо. Он обернулся — перед ним стоял член магистрата. — Какая ошибка! Какое упущение! — Что еще за су с ливра? — удивился Одиго, сразу упав с облаков. — Как? Вы не знали об этом прямом едином налоге на все, решительно все торговые сделки? Вы не осведомлены о том, что одна двадцатая стоимости всякого проданного товара несправедливо, огорчительно и убыточно для бедных торговцев поступает в казну? Прошу прощения, сеньор, но это.,, это… Я просто не нахожу слов, И член магистрата побагровел от возмущения. — Не знаю, мэтр, насколько несправедлив этот налог, — разочарованно сказал Бернар. — Ведь речь должна идти в первую очередь о бедняках. Надо найти комиссара, или прево, или бальи… словом, кто отдаст приказ, чтобы открыли ворота? — Держитесь меня! — с достоинством сказал тот, стукнув себя по массивной золотой цепи на груди. — Держитесь меня, мэтра Лавю, и вы не ошибетесь! Я — мэр и притом принадлежу к партии Белых… Эй, сержант! А с этими, в синих перевязях, вам лучше не иметь никаких дел: это — Синие! — Синие? — переспросил Одиго. — Это что еще за радуга, мэтр? В сопровождении сержанта они уже шли к воротам. Жаки шли следом, ведя коня. — Синие — сущие злодеи, сеньор, хоть и с магистратскими цепями на шеях, — с жаром объяснял мэтр Лавю. — Бегите их, как огня! Равно как и компаньонажей. Тоже одни злодеи, сьер, и еще похуже Синих! — Тьфу, я опять ничего не понял! — с досадой сказал Одиго. — Компаньонажи, белые, синие… Ладно, бог с ними, разберемся как-нибудь потом, на досуге. Ответьте мне по-французски: что у вас творится? Жестикулируя на ходу, мэр привел Бернара к воротам. Буржуа с белыми и синими лентами через плечо встретили их у ворот, у всех были довольно кислые физиономии. Стрелки поднялись в башню запускать подъемное устройство. * * * — Изменит, — сказал Клод Жаку Бернье, когда тот, косясь на городские пушки, отвел людей от стен на приличное расстояние. — Того не может быть, чтобы дворянчик не подгадил. Что Одиго, что Оливье — все они заодно, как воры на ярмарке! — Потерпи, кум, — сказал на это Жак. — Больно ты скор. Смотри, не скатилась бы к нам с этих стен чья-то молодая голова! Но ворота открылись. Ткач и Жак с мушкетами наизготовку подошли к воротам и увидели Одиго, а с ним весь магистрат. Мэтр Лавю зорко оглядел из-под согнутой козырьком ладони Армию Страдания и заметил Бернару: — Поймите меня правильно, сеньор, если я посоветую не вводить все ваши силы в город. Знаете, почем сейчас горсть жареных каштанов? Ткач при этих словах подошел ближе, приветливый, как тюремная дверь. — Эге! — сказал он весьма прохладным тоном. — Да это мэтр Саблон-Лавю, мой старый хозяин! Послушать его, жирного старого каплуна, так, ей-богу, ему жалко жратвы. Он уже подсчитал, сколько влезет в наши желудки! «Однако какое у них близкое знакомство, — подумал Одиго. — Нет, не будет тут добра!» Мэр с достоинством поправил цепь на груди и, раздувшись, как индюк, ответил: — Добро пожаловать, мой Клод! Мастеру славного цеха суконщиков всегда приятно увидеть своего работника, даже если они когда-то разошлись… гм… не совсем удовлетворенные друг другом. Вот я и говорю сеньору Одиго: нужно ли стольких голодных людей… — Нужно! — отрезал ткач. — Ты отдашь приказ в мукомольни и пекарни, мэр, чтоб там не спали ночку, другую, только и всего. А если вздумаешь… — Опять спешишь ты, чертов кум! — с досадой вмешался Жак Бернье. — И не распоряжайся, сделай милость, словно ты один на свете. Вот что скажет сеньор наш, генерал Армии Страдания? Одиго, которому столь скоропалительно и отважно присвоили высший воинский чин, поразмыслив, объяснил, что в городе только отряд муниципальной гвардии и, значит, нет нужды вводить большую воинскую силу. А если такая нужда возникнет, можно будет снова кликнуть клич по приходам. — И прекрасно рассудил, сеньор генерал, — с довольным видом подхватил Жак. — Ни к чему, в самом деле, мужикам прохлаждаться промеж городских пустомель: дома дела поважней. Действуй, генерал! Невзирая на крики и вопли ткача об измене, Одиго тут же приказал командирам отобрать из каждой роты не более трети людей помоложе, не обремененных семейством, остальных поручили божьей матери и отпустили домой. Мальчишки барабанщики, пожирая глазами Одиго, давно уж занесли свои палочки над барабанами и изнывали от нетерпения. Одиго, наконец, махнул им, и крепкая дробь пророкотала под стенами Старого Города. Люди построились по четыре, и городские ворота поглотили часть Армии Страдания. 20 Перенесемся теперь ближе к морю, в таверну «Берег надежды», за низенькую дверь с прибитой к ней веткой трилистника — добрым знаком того, что здесь, в придачу к луковому супу, можно спросить и винца. Тут, среди закоптелых стен, увешанных медной посудой, среди бочонков и бочек, среди серебряных гирлянд чеснока и золотистых связок лука, в крепких табачных и кухонных запахах сидел Одиго на общей скамье с членами магистрата. А напротив восседали уже как следует выпившие ткач Клод и папаша Бернье. Вожаки повстанцев и буржуа таращились друг на друга, зло выпучив глаза, подобно фарфоровым собачкам, что стояли нос к носу на каминной доске. Один Бернар был трезв, молчалив и, как говорится, застегнут на все пуговицы. Остальные же отнюдь не церемонились и не чинились: с истинно французским красноречием, с подкупающей простотой и откровенностью они выкладывали все, что думают друг о друге. — Издалека видны фальшивые маски ваших Белых, — слышался тонкий, но ядовитый голос одного из советников. — Сколько жалоб! Сколько хныканья! Ох, регламенты, ох, налог на краску… А не вы ли, почтеннейший мэр, науськиваете чернь громить наши хлебные лавки? — Клянусь, я отвечу тебе, толстосум Молиньер! — гремел бас мэра. — Теперь-то я знаю, кто подстрекал моих подмастерьев заводить богопротивные сии компаньонажи, эти союзы дьяволов, эти чертовы посиделки, из-за которых стоят мои станки и бегут мои работники! — Будто он так уж бережет своих работников! — отозвался ткач с пьяным смехом. — Скажите, какой добряк! А кто помог напялить на меня красную куртку и обрить мою башку, чуть вздумал я поспорить с королевским инспектором по сукнам? — Пожечь их виноградники, поломать оливки! — в аккомпанемент стучал по столу кулак Жака Бернье, — и, подскакивая, летели на пол и разбивались бутылки. Одиго понял, что эти люди, от которых зависит общее дело, ненавидят друг друга, что Синие и Белые — всего лишь кучки буржуа, готовые утопить друг друга в ложке воды из-за власти и доходов, что городские мужи и повстанцы вообще ни в чем не согласны, кроме одного: отмены габели. Никаких братских чувств! Карман, один карман! И Одиго скучал, по пословице, как старая корка, забытая за сундуком. Вскоре это ему надоело. Он поднялся, зевнул во всю глотку и сказал: — Неужели вы — это и есть народ прекрасной Франции? Господи, да разве существует что-либо хуже и позорней? Я еще понимаю ткача — по его спине гуляла каторжная плеть, я могу понять и труженика Жака… но вас, господа буржуа, ваши лукавство, скаредность и хапужество, ваше мелкое чванство и мещанские интриги — нет, я отказываюсь понять! Вы хуже сеньоров и ниже мужиков, ибо вы сыты, как сеньоры, и грубы, как мужики. Но я не нахожу в вас ни дворянского благородства, ни мужицкой справедливости! И, хлопнув дверью, бледный от гнева и душевной скорби, он вышел вон, на свежий ночной воздух. Он стоял теперь у мола и смотрел на лунный коридор, рассекающий успокоенное ночное море, он слышал скрип судов, стоящих на причале. Темные контуры мачт и снастей, скользя в высоте с облака на облако, по временам задевали светящуюся рожицу луны. Мачты и снасти однообразно перемещались, отвечая своими движениями напору и отходу волн под днищами кораблей. И так же однообразны, бесцельны и монотонны, как эти повторяющиеся скрип и движение, показались ему события истекших дней. Он вспомнил, с каким бодрым сознанием правоты поднимал он крестьян, и угрюмо усмехнулся. Детской сказкой показалась ему легенда о якоре. — Я хочу знать, — мучил он себя, — что делать мне, Бернару Одиго, в этом вечном приливе и отливе злых человеческих страстей и корыстных побуждений? Да разве смогу я, ничтожный, что-либо изменить в их заданном раз навсегда движении? И Одиго ближе подошел к морю, точно надеясь получить у него ответ. У самой черты прилива на камне сидел человек с мушкетом. Видимо, жаки не только охраняли командира, но и бдительно за ним следили. С гневом он обратился к сидевшему: — Разве мало тебе дня шпионить за мной? Человек повернул к нему лицо, затененное полями шляпы. — Вы не в духе, сеньор мой? — услышал Одиго мягкий женский голос. — Отец велел мне быть здесь. Братья напились и уснули, кругом ружья да пики, а вы неосторожны… — Так это ты! — сказал сильно раздосадованный Бернар. — Пристало ли девице торчать среди мужчин, да еще переодетой? Ступай домой, в деревню. Не нужна мне ни твоя, ни чья-либо другая охрана. Не смея ослушаться, Эсперанса поднялась. Понурив голову, она сделала несколько шагов — и остановилась. — Да, я была нужна вам, сеньор, — услышал Одиго ее тихий голос, — когда вас травили собаками. И еще я была нужна, когда вы лежали в жару без памяти. Ну, а теперь… Бернару стало совестно. — Погоди минутку, — сказал он помягче. — Я не хотел тебя обидеть, но, клянусь честью, мне очень не по себе. — Я узнала это по вашей походке, — живо откликнулась она. — Что же так расстроило вас, сеньор Одиго? Одиго сейчас был готов исповедаться не только живой душе, но даже камню, на который он опустился. — Эх, девушка, не то получилось, на что я надеялся! — вырвалось у него. — И буржуа, и ткач, и жаки — да и отец твой тоже, думают только о своей выгоде и вражде. Кажется, один я помню о нашей общей цели! Эсперанса внимательно выслушала, подошла ближе и, положив мушкет, присела на песок у ног Одиго. — Извините, сеньор, если я не то скажу, — начала она робко. — По моему слабому разумению, это оттого, что только вам одному из всех незнакомы нужда и забота. Легко быть добрым, когда ты сыт. — Что такое? — недовольно сказал Бернар, озадаченный тем, что крестьянская девушка вздумала его поучать. — Так ты, значит, оправдываешь их? — Ах нет, не то! — воскликнула Эсперанса в страхе, что он рассердится и уйдет. — Жаки злы, грубы и подозрительны, это верно… А почему это так, сеньор мой? Едва рождаемся мы на своем нищем поле, как уже становимся обузой для матерей и с детства понимаем это. Да, лица наши темны и души угрюмы… Но кто сказал мужику когда-нибудь доброе слово? Все только и твердят нам: «Эй, Жак Простак, ты не раскошелишься, пока тебя не поколотят!» Она говорила кротким и ровным тоном. Но каждое ее тихое слово падало на душу Одиго как тяжкая гиря. И он сжал рукоять шпаги так, что побелели суставы. А она продолжала: — Да, вы добры и жалостливы… А вспомните, сколько доброты и ласки вложила в вас ваша мать, — у нас недаром считали ее святой женщиной… Вы стройны, красивы и высоки — ведь вам не приходилось день-деньской гнуть спину на виноградниках, в детстве вас уберегли от оспы, никто не поднимал на вас руки, не ругал черным словом… — Замолчи! — крикнул Одиго, схватившись за голову. Она умолкла и осторожно тронула его за край плаща. — Я обидела вас? — Чем же я виноват? — гневно спросил Одиго. — Среди богатых и знатных я прослыл карьеристом и предателем. Я иду с открытым сердцем навстречу тем, кого обижали. Пусть у меня, лишенного почестей и денег, растет одна трава на дворе. Но и бедняки мне не доверяют! — Ткач оттого не верит вам, — объяснила Эсперанса, — что с детства видел таких, как вы, только в каретах да на конях. — Что же я такое? Белая ворона? Эсперанса задумалась. — Да, — смутившись, подтвердила она. — Для всех вы ни свой, ни чужой. Вы о чем-то все думаете, все мечтаете, в вас нет ни вражды, ни любви. Оттого-то никому и неведомо, что вы за человек. Должно быть, в душе вы все же остались сеньором. Вам бы, сударь, сильно полюбить или пострадать… Но я не вынесу этого! Голос ее задрожал и пресекся, а голова опустилась. Одиго взял девушку за подбородок, повернул ее голову к себе и внимательно посмотрел в глаза. — Что вы так смотрите? — улыбнулась Эсперанса сквозь слезы. — Ну да, деревенская девушка не смеет думать о сеньоре… А у нас поют такую песню: «Ее сеньор отправился на войну, и она надела мужское платье и пошла за ним». Одиго смотрел на нее, не понимая, как простая крестьянка может быть такой разумной. Она была красива, несмотря на следы оспы, со своим загорелым и свежим лицом и черными косами. Но это его сейчас не трогало. — Несколько парней из нашего прихода хотели жениться на мне, — задумчиво сказала Эсперанса. — И ткач Клод, он тоже… Да что об этом болтать! Я никогда не выйду замуж. Видно, так хочет мадонна. — Уж не я ли в том повинен? — встревоженно спросил Бернар. Она улыбнулась и отрицательно покачала головой, потом встала и поправила выбившиеся из-под шляпы косы. — О, вы не знаете конца той песни, сеньор мой! — сказала она торжествующим голосом. — Вот что в ней дальше сказано: «И сеньор не отличал ее от своих солдат. Но она шла за ним повсюду, и видела его, и этим была счастлива, как яблоня под солнцем». Одиго смущенно молчал. Эсперанса медленно пошла прочь, взяв свой мушкет. При этом она все еще надеялась, что он остановит ее и скажет ей что-нибудь ласковое. Но Бернар снова глубоко ушел в свои мысли. 21 Чтобы овладеть событиями, человек стремится начертать их ясную схему в своем сознании. Но только что он набросает в уме приблизительный чертеж происходящего, рука истории с маху выведет на нем нечто совершенно неожиданное, какой-то загадочный, путаный и, казалось бы, зловещий иероглиф. Одиго всегда думал, что он сумеет разбудить в народе простую и могучую мысль о том, что зло не всесильно. Коль скоро этого достигнешь, мечтал он, французского простолюдина уже не сломить. Приведя крестьян в город, Одиго полагал, что одним этим окажет давление на местный парламент и на провинциальные Штаты. Если он, безвестный дворянин, поднял в своей глуши столько крестьян, если это произойдет повсеместно, что может сделать король? К тому же армия короля воюет. Такой рисунок событий запечатлелся в уме Одиго. И он надеялся обойтись даже без кровопролития. Но утром следующего дня началось нечто непредвиденное. Первыми об этом узнали портовые грузчики. Они побежали в город, крича, что на корабле из Парижа прибыл важный сеньор с черным бархатным мешком, в котором лежат новые королевские указы. По городу сейчас же поползли дикие слухи о том, что отныне будут брать пошлины на каждого новорожденного ребенка, на платье, шляпы, башмаки, на каждый фунт хлеба, на каждый день жизни. Женщины в церкви первыми подняли бунт. Когда проповедник призвал их подчиниться властям, они пришли в бешенство и там же, в церкви, в щепы изломали скамьи, предназначенные для высоких господ, а потом выбежали на рыночную площадь. Одиго, дремавший на берегу, услышал набат. Звонили во всех церквях. Он поспешил в палатку недалеко от рынка, в которой разместился его штаб. В палатке спали его командиры. Он разбудил их и приказал построить роты. Затрещали барабаны, и крестьяне выстроились, ворча, что нет покоя от муштры. Одиго сообщил командирам пароль и повел их на рынок, откуда доносился невероятный шум, крики и брань: разъяренные женщины гонялись за сборщиками податей, что вышли спозаранку проверять торговые сделки со своими списками и кошёлками. По дороге к рынку Одиго увидел расклеенные по стенам домов и на столбах у перекрестков свежие плакаты. Они гласили: «НАРОД, ВООРУЖАЙСЯ! ПЕРЕБЬЕМ ВСЕХ, КТО СТОИТ ЗА ВВЕДЕНИЕ ЭЛЮ!» «НЕУЖЕЛИ ВЫ ПОТЕРПИТЕ ЭЛЮ?» «УМРЕМ С ПИКОЙ В РУКЕ!» «ПАРЛАМЕНТ ЗАСТУПИТСЯ ЗА НАС!» У рынка Одиго остановил свои отряды. Навстречу ему двигалась толпа женщин. Впереди под знаменем из красной бумаги шла их капитаньесса — дородная торговка в широкополой шляпе с перьями, свирепая, как пантера. Она бросила окровавленную куртку убитого сборщика под ноги Одиго, расхохоталась и запела: «Лянтюрлю, лянтюрлю!» Одиго стоял впереди своих отрядов, не зная, что ему делать, так как ни ткача, ни Жака не было видно. Из затруднения его вывел звук трубы. На возвышении посреди рынка поднялся сержант мэрии, отставной солдат с белой лентой через плечо, с выпученными в солдатском усердии глазами; за ним следовал трубач. Этот высоко поднял свой инструмент и еще раз громко протрубил, чтобы привлечь общее внимание. Сержант расправил плечи, подкрутил рукой усы и гаркнул: — Эй, горожане Старого Города и вы все, проживающие в округе! Согласно воле и пожеланию его величества христианнейшего короля, следует назначить и утвердить на вечные времена некоторое разумное разделение этой провинции на податные округа, дабы приличней и удобней было впредь назначать и собирать налоги и пошлины в казну! И утвердить, чтоб каждым сим податным округом ведал некий чиновник, называемый элю! И наказать, чтоб таковым чиновникам, называемым элю, никто не смел чинить препятствий, досад и огорчений! Дано в городе Париже сего года апреля одиннадцатого дня. Он так был убежден в своем важном значении, этот не знающий страха служака, что никто не мешал ему гордо спуститься с возвышения. Надутый и насупленный, пошел он на толпу брюхом вперед, с непоколебимой уверенностью в том, что его пропустят, — и перед ним действительно все расступились. Но Одиго без всяких церемоний схватил его за воротник. — Проклятый болван, — прошипел он сквозь зубы, — не нашел ты другого времени, крикун, оглашать твои дурацкие указы! Держа сержанта за воротник, он втолкнул его легким пинком под зад в передние ряды своих солдат. Те сочли это приглашением к веселой игре и, подпихивая его и подбрасывая, пропустили сквозь гущу своих рядов, так что он выкатился уже где-то на другой улице, сильно помятый, но в безопасности. И вовремя: капитаньесса уже пришла в себя. Голосом, напоминавшим рев разбуженной медведицы, она закричала, потрясая кулачищами: — Убьем всех элю! И женщины бросились за ней следом. Одиго узнал у торговок, где размещается податной совет, и скомандовал своим: «Шагом марш!» По пути к нему присоединились многие, и когда отряды окружили здание, где заседали чиновники, толпа запрудила все прилегающие улицы. Одиго все еще надеялся, что удастся обойтись без крови. Но с балкона кто-то сдуру или со страху выпалил в толпу из мушкета, и уже никто не слушал ничьих команд. В окна полетели камни, в двери с грохотом ударились бревна. На улице развели костер и жгли в нем налоговые списки. Из толпы выделился ткач. Теперь он был живописно одет в какой-то разноцветный плащ, на голове у него было подобие венка из лавровых ли