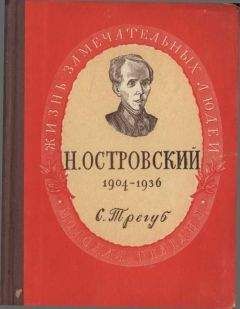Государев наместник - Полотнянко Николай Алексеевич
– Морозов и Милославский всем завладели, царь это знает и молчит!
– Чёрт у него ум отнял!
«Беда!» – промелькнуло в голове Никифора. Не рядясь, он взял первого попавшегося извозчика и поехал за вещами. Покидал их в возок и поспешил к Неглинке.
А дела в Москве начались крутые. Толпы двинулись навстречу царю, который возвращался из Троице-Сергиевской лавры, не ведая о поджидавшей его народной грозе. Когда государь был встречен, к нему из толпы полезли челобитчики. Обиженных боярскими неправдами было много. Особенное возмущение народа вызывал сбор с битьём недоимок по налогу на соль. Так получилось, что налог был изрядно снижен, но прежние недоимки прощены не были, их требовали к оплате, разоряя простых людей и понуждая их записывать в кабалу жён и детей, а то и самих себя.
Алексей Михайлович был потрясён случившимся, он оглядывался вокруг себя, но никто из окружения не осмеливался говорить с людьми. Потрясённый государь не воспрепятствовал охране, которая начала разгонять толпу. В ответ послышалась поносная ругань, в стременных стрельцов полетели камни.
От всех этих дел Никифор спешил поскорее убежать в Синбирск. На его счастье возле Пушечного двора было мирно. Пушечные литейщики и кузнецы, бросив работу, ушли встречать царя, готовый к отплытию струг стоял у берега. Никифор расплатился с извозчиком и стал переносить вещи в отгороженную клетушку, которую кормщик ему выделил близ кормы.
– Здесь тебе будет поспокойнее, батька, – сказал кормщик. – Тут и попадья твоя поместится.
Вскоре целым обозом явились иноземцы, с жёнами и детьми. Опять кормщик стал кричать, что не возьмёт на струг коней, но польские злотые его утешили. Иноземцы заняли клетушки и отгородки вокруг Никифора, коней завели на нос судна и привязали к коновязи. Увидев Никифора, иноземцы обрадовались, они были православными людьми, испытавшими гонения за веру, и сан священника ставили очень высоко. Шляхтич Михаил Палецкий поинтересовался у Никифора, не имеет ли он в чём нужды. Завязалась беседа, и знакомство состоялось. Соседством иноземцев Никифор был доволен, это были надёжные, строгих нравов дворяне, способные постоять за себя с оружием в руках. А когда он проведал, что эти люди едут в Заволжье в Дикое поле, где им дадены поместья на границе, ещё не огороженной засекой, то поразился их мужеству ещё больше.
– На Москве замятия начались, – сказал кормщик, подойдя к Никифору. – Не ведаю, подойдут ли стрельцы. Без них я не пойду, не велено.
Осуждённых стрельцов, числом в двадцать, привел стрелецкий капитан Нефёдов, зверовидный служивый человек громадного роста. В его подчинении было пятнадцать стрельцов из его полуприказа, над которыми он имел необъятную власть из-за своей немереной силы и крутого нрава. В руке Нефёдов держал трость, которой отсчитывал осуждённых, отправляя их на струг, а тех, кто замешкается, бил по спинам со всего размаху с оттяжкой.
Кормщик на борту струга принимал этих людей и садил за вёсла, теперь им предстояло там находиться, пока не дойдут до Синбирска.
– Отчаливай, Викентий! – приказал стрелецкий капитан кормщику. – Время не терпит. Чернь на Москве дома сильных людей начала жечь. А на струге смуты не будет. Чуть что почую, посажу в воду с мешком на голове!
Никифор, напуганный Нефёдовым, смирно сидел в своём закутке, посасывая ржаной сухарь и поглядывая по сторонам. Из Неглинки струг вышел в реку Москву, и все начали креститься на кремлёвские соборы. В самом Кремле было спокойно, и только вороны с гомоном кружились над золочёными узорчатыми кровлями храмов и теремов.
Москва долго прощалась с отъезжающими: город сменился посадами, за ним пошли пригородные слободы, затем боярские усадьбы, берега реки были обжиты и густо населены.
Гребцы мерно налегали на весла, неторопкое течение подталкивало струг вперёд, начались поля, выбегающие своими краями на берега реки Москвы, но вот они кончились, и вокруг встал лес, опасный не только своими зверями и топями, но и лихими людьми, которые промышляли разбоями вокруг стольного града.
Вечером Никифор замешал на воде толокно, поужинал и, увидев первую вечернюю звезду, встал на молитву. К нему присоединились иноземцы и стрельцы во главе со своим зверовидным начальником. День прожит, и следовало поблагодарить за это Господа, молитвой тихой и умиротворяющей душу.
В полночь кормщик остановил струг посредине реки, бросили якорь, подперлись шестами, и гребцы уснули за веслами, кто где смог приспособиться. На корме караульные стрельцы жгли небольшой сигнальный огонь. Иноземцы угомонили своих беспокойных чад, и струг погрузился в тишину, нарушаемую только звуками воды и леса.
Стрелецкий капитан Нефёдов проснулся на заре и разбудил гребцов. Те закряхтели, разминая затёкшие ноги и спины, заворчали, что попали на каторгу, но капитан поднял трость, и все сразу примолкли.
К концу второго дня путешественников нагнало известие – в Москве бунт. Во время крёстного хода, в котором участвовал царь, из Кремля в Сретенский монастырь, посадские и служилые люди вновь начали добиваться доступа к царю с криками, что от боярина Морозова, начальника Земского приказа Плещеева, управителя Москвы, окольничего Траханиотова и дьяка Чистого московским людям житья не стало. Кричали также, что соль подорожала вдесятеро против прежних лет, народу посолиться нечем, в астраханских и яицких учугах – пристанях сгнила рыба, улов этого года, и скоро на Руси настанет голод. Этот шум и мятеж попытались усмирить плетьми сподручники Плещеева, но народ встал на дыбы, обозлился и потребовал выдачи начальника Земского приказа.
Виновники народного возмущения попрятались, а толпа принялась громить их дворы и жечь. Бунт запылал с новой силой, как раздутая ветром головня. У царя решили выдать Плещеева толпе, но люди оттолкнули палача и растерзали своего ненавистника в мелкие клочья. Такая же участь постигла окольничего Траханиотова и дьяка Чистого. В ходе возмущения были разграблены дома многих государевых сильных людей. Но убийствами и грабежами дело не ограничилось, в Москве начался сильный пожар, охвативший весь Китай-город. Царь Алексей Михайлович с женой заперся в самой дальней комнате своего терема и молил Господа о собственном спасении.
От государя отступились все двадцать приказов московских стрельцов, и только стремянной стрелецкий полк и наёмные иноземцы его поддерживали. Царю пришлось пожертвовать своим воспитателем, боярином Морозовым, того выслали в дальний монастырь. Тесть царя Илья Милославский поил вином стрельцов, уговаривая их отступиться от мятежа. В конце концов сошлись на восьми рублях каждому стрельцу, и те, получив деньги, кинулись на бунтовавших людей, начались пытки и казни.
Отца Никифора московские события волновали так же мало, как и большинство людей на струге. Все, кроме ссыльных стрельцов, были рады, что не попали в полымя мятежа. Гребцы сожалели, что не пришлось им поучаствовать в грабежах сильных людей, и бросали исподтишка злобные взгляды на своего стража Нефёдова, считая его основным виновником своей несвободы. Их уже собирались выпустить из тюремного подвала, но заявился стрелецкий капитан со своими натасканными на убийства подначальными людьми, и, тыча под рёбра остриями клинков, арестантов погнали на струг и посадили за тяжёлые, как брёвна, вёсла.
В Коломне струг на малое время задержали власти, сюда эхом дошло московское возмущение, и в граде случился невеликий бунтишка, который воевода стремительно пресёк и приказал останавливать всех проезжающих. Нефёдов сошёл на берег, переговорил с уездным начальником, и струг пошёл дальше, в широкую, ещё не обретшую свои коренные берега, Оку.
Течение на Оке было в полноводье сильнее, чем в реке Москве, и Никифор пришёл в смятенное состояние духа: скоро должен быть Муром, а за ним село, где ждала его Марфинька, и не одна. Кого Бог дал, сына или дочку? Никифор загадывал сына, чтобы было, кому передать на склоне лет пастырское облачение, но и дочка, мыслил он, тоже Божий гостинец, услада дней, помощница матери по хозяйству.