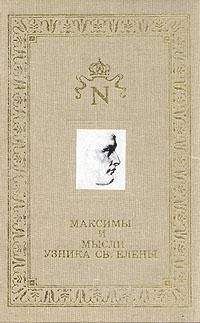Вера Космолинская - Коронованный лев
Он оторвался от книги и посмотрел на меня с каким-то академическим интересом.
— Нет, — сказал он. — Мы в шестнадцатом. — И снова уткнулся в книгу.
— Тогда что? Что было не так? Знаю, мне следовало поговорить с Огюстом спокойней и раньше, заговорить с ним первым, пока он не дошел до отчаяния. Я этого не сделал, это было глупо, эгоистично и я не находил слов, хотя знаю, что именно мне следовало их найти и ты на это рассчитывал. Но помогло бы это? Он же просто снаряд, который всегда готов разорваться. А снаряды укладывают в песочек и отвозят подальше от города. А если бы я его спровоцировал, и это случилось на людях? Я должен был его просто успокоить? И надолго бы этого хватило? Ему плохо не на шутку, тут битьем подушек не обойдешься!
Увлекшись, я упустил момент, когда он опустил книгу.
— И? — спросил он почти иронично.
— И?!..
— И ты решил, что вправе рисковать собой?
Я изумился.
— Да при чем тут я?..
— А при том, что — что бы мне пришлось потом делать с Огюстом — шею ему сворачивать?
Я поглядел на отца недоуменно.
— Какая чушь! Он ничего бы мне не сделал. В конце концов, когда-то я спас ему жизнь.
— А он — тебе. Значит, вы квиты.
— Тем более — зачем же сворачивать ему шею?
— Я знаю, что ваша дружба уже прошла огонь, воду и медные трубы. Но вы когда-нибудь прежде бывали в такой ситуации, как сейчас?
— Нет. Но мы и в тех ситуациях до них никогда не бывали.
— Безумие — очень тонкая штука.
— Вот и пусть лучше побесится немного сейчас, чем потом.
Отец вздохнул.
— Потом этого тоже будет не избежать.
— Потом будет проще. Все-таки, первый пар уже выпущен.
— Ну, да. — Отец немного помолчал и вздохнул. — Любишь ты все-таки эксперименты.
— Ничего я не люблю. Просто это должно было произойти. Лучше раньше, чем позже, и лучше с меньшими потерями.
— Поговоришь у меня о меньших потерях, — проворчал отец, снова беря в руки книгу. — Дети — цветы жизни — алая и белая розы, как говорил Эдуард Третий… Ладно, молодцы, надеюсь, это хоть как-то нам поможет. Но все-таки, давайте поосторожнее. И давай-ка спать.
— Ладно, — согласился я и напоследок кивнул на книжку. — Ты действительно это читаешь?
— Нет. Притворяюсь. — Он тихо фыркнул в усы. — Надо же как-то вернуть себе душевное равновесие. А тут знакомые четкие объекты рядами и колоннами. Раз — буковка, два — буковка… — Он посмотрел на меня с хитрецой и подмигнул. — Спокойной ночи.
Да, теперь, кажется, наконец, спокойной. Я с облегчением улыбнулся в ответ.
— Спокойной ночи.
Коридор был так же тих. Комната девушек упиралась в глухую стенку, а наша с Огюстом была ближайшей к лестнице. «Мы охраняем рубеж», — подумал я, усмехнувшись: «Если, конечно, не покидаем пост…».
В комнате было темно, если не считать лившегося в окно лунного света. Огюст лежал на своей постели неподвижно, зарывшись лицом в подушку. Прислушался. Дышит. Прекрасно. А вот раздеться он даже не пытался. Пришлось избавить его от самых громоздких вещей вроде сапог и портупеи, с остальным разберется сам, если что-то во сне вдруг начнет его душить. Хотя, если во сне что-то начинает душить, для этого «что-то» даже крахмальный воротничок не нужен.
VI. Путь мертвеца
В головокружительный полет среди бесконечности мертвых звезд врезался чей-то дикий крик. Я вздрогнул как от падения и очнулся в мягкой кровати, с бьющимся сердцем разглядывая серый и бледный в рассветных лучах дощатый потолок. Похоже, я весь взмок от приснившегося мне «звездного ужаса» — я парил в черной пустоте и по своему желанию мог оказаться возле любой звезды, но все они были мертвыми. Они все сияли издали живыми алмазами, но вблизи оказывалось, что это иллюзия, они были только съежившимися комками остывшего шлака — скорость света была слишком медленной, и свет еще шел, а звезд уже не было — ни одной! Они все были мертвыми.
Крик, видно замерший лишь на мгновение, повторился, и я с облегчением уразумел, что кричал все-таки не я. Да и с чего бы? Мне было страшно тоскливо, но… Боже, как же славно иногда просыпаться! Даже по такому поводу!.. Нет, это был даже не крик — самозабвенный визг, какой обычно издает не обладающая благородным хладнокровием дама, обнаружившая у себя под одеялом дохлую крысу.
Огюст, невнятно чертыхаясь, приподнял голову. Волосы у него на голове торчали как сдвинутые набекрень рожки.
— Кого там режут?
— Пока не знаю. — Но вероятность того, что кого-то и правда могут резать, заставила меня тут же сесть на кровати и начать одеваться. В окно никого видно не было. Огюст и так был одет и, судя по всему, успел это отметить, но от попытки сесть со стоном схватился за голову. Так что за дверь я выскочил один. В незастегнутом колете и с портупеей в руках.
В доме уже вовсю хлопали двери, слышались сонные, недовольные, удивленные, встревоженные голоса. Рауль, в таком же точно виде как я, вышел из соседней комнаты почти в то же мгновение.
— Это не у вас? — на всякий случай спросил Рауль.
— С ума сошел? — ответил я. Дверь внизу была открыта, и там, на крыльце, уже кто-то толкался, крики стихли. Туда-то мы и поспешили спуститься. Рауль съехал по перилам, а я просто перескочил через ступеньки, поймав рукой столбик от тех же перил, чтобы смягчить удар и даже успев отдернуть руку, пока Рауль на меня не приземлился. На крыльце, судорожно цепляясь покрасневшими от вечной влаги руками за чепец, сотрясалась в рыданиях судомойка. Ее успокаивающе похлопывал по плечам молодой человек в криво нацепленном фартуке — зять мэтра Гастона. Сам мэтр Гастон, с выпученными глазами, в расстегнутой рубахе, только что появился из глубин дома, разрезая воздух с тяжелым гулом, как майский жук.
— Мда… — сказал Рауль, едва мы высунулись на крыльцо.
Лучше не скажешь. Судомойку можно было понять. Ступеньки крыльца, да и все крыльцо, были залиты и забрызганы кровью.
— Что происходит!.. — ворвался к нам на крыльцо мэтр Гастон, и, судорожно втянув воздух, странно крякнул, будто его сейчас вывернет наизнанку. Рауль ободряюще похлопал его по спине.
Наполовину на ступеньках, наполовину на земле под ними полулежал-полусидел в нелепо-вывернутой позе человек, чьи широко-распахнутые мутно-стеклянные глаза были устремлены вверх, почти на нас, посиневшие губы приподняты, обнажая зубы, его некогда оранжевая одежда стала бурой с оранжевыми кляксами, хотя на самом деле было наоборот. У него было перерезано горло. Кровь кое-где успела высохнуть и почернеть. Человек был мертв уже несколько часов. Никто не мог вспомнить, как его звали. Он все пытался заговорить о религии. А от меня нарвался только на грубость.