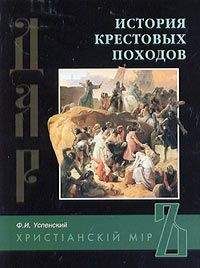Федор Гайворонский - Последний тамплиер
Я стал на колени перед старцем, который перекрестив меня, потом по-отечески погладил по голове.
— Ты совсем седой, сынок. А у меня первый седой волос появился лишь в сорок два.
Я поднялся и обнял священника.
— Благодарю вас, отче. Вы вернули мне себя самого.
— Нет, мальчик мой. Хоть ты давно уже зрелый муж, ты был и остался для меня прежним маленьким Жаком, которого я всегда любил. Ты прошел многие тернии, но не потерял себя. Просто я вернул тебе уверенность, что дела свои ты творишь не от имени дьявола, но от Бога. Так и должно быть, ведь ты — хозяин нашей земли. Когда господин вершит справедливый суд и поступает честно, согласно велению сердца и совести, Господь никогда не обойдет его владения своим вниманием. Всегда на нем и его подданных будет пребывать божья благодать, государство цвести и крепнуть.
— Я слышал однажды подобные слова. Их говорил один храбрый человек. Он давно умер.
— Да пребудет он в царствии небесном, если он так говорил, если он сумел донести сии слова до твоего сердца, ибо очень немногие правители к ним прислушиваются, но еще меньше следуют им.
Мир устроен намного проще, чем кажется людям, Жак. Посмотри на мою жизнь. Сорок пять лет я живу с женщиной, хотя закон божий запрещает мне это. Но я знаю, что закон-то этот придуман не Богом, а людьми, чтобы разъединить то, что соединил сам Господь. Чтобы человек не смел голову поднять и вечно жил в страхе, как забитая собака. Так легче властвовать королю и Папе. Но не страху нас учил Иисус, а смирению, умению обуздать страсти, не дать им овладеть душой. Когда я впервые увидел Дануту, я сказал себе: «Вот та, что послана мне Богом». И это действительно оказалось так. Мы полюбили друг друга сразу, едва увидели, словно когда-то были уже знакомы. Мы прожили счастливую жизнь. Глядя на нас, молодые люди понимают, как надо жить по-божески, по закону, написанному там, на небесах. Думаешь я не заглядывался на других женщин, когда начал жить с Данутой? Смотрел, да еще как, ведь мне было-то всего двадцать четыре года! Но я понимал — один раз Господь попустительствовал мне, другого раза не будет. И я усмирял похоть, и оставался верен жене. Она была моей первой и осталась единственной женщиной. И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, какое это высшее счастье — всю жизнь любить одну женщину, если эта женщина послана тебе небесами! Живи мой господин, согласно зову сердца и велению души. И даже если весь мир тебя будет убеждать не делать так, но ты будешь знать, что так делать надо, делай, как говорит тебе сердце, потому что его голос — воля Всевышнего. И не думай ни о чем. Господь никогда не оставит тебя. И твое чудесное возвращение прошлым летом — есть очевидное подтверждение моим словам. Ты все сделал правильно. Иначе ты не смог бы вернуться.
Я шел в замок счастливым. Сырой ветер дул в лицо, сапоги проваливались в серый, льдистый снег. В такую погоду хорошо сидеть дома, у камина. Но я не замечал непогоды, неся два сокровища — одно в душе, другое подмышкой, в треснувшем кожаном переплете. В замке, уединившись, я выпил горячего вина, завернулся в плед, зажег в подсвечнике все двенадцать свечей, сел в кресло и открыл книгу. Я не забыл латынь, хвала Гиллелю. Я водил пальцем по строчкам, и вспоминая забытые слова, читал, сначала по складам, а потом, постепенно, уже бегло, «Государство» Платона, и казалось, откровение божие сходит на меня. Теперь я тоже знал, а значит, кое-что мог.
В конце февраля в Шюре прибыла артель каменщиков. Я посылал за ними человека в Дижон. Мастера артели звали Эдуардом. Это был рослый шотландец, еще ребенком вывезенный с острова, свободно владевший шотландским, английским, немецким и французским языками, великолепно понимавший латынь. Он приглянулся мне сразу, едва мы познакомились, ибо в нем чувство собственного глубокого достоинства и образованности сочеталось со скромностью и непритязательностью. Первое впечатление не оказалось обманчивым. Мастер Эдуард был именно таким человеком, каким старался казаться. Подобно рыцарю, он трепетно относился ко всему, что касалось чести, как его собственной, так и его артели, ложи, как он ее называл. Но во всем остальном — в еде, быту, манере одеваться, он был прост и безропотно мог довольствоваться самым необходимым.
Ремесло свое он унаследовал от отца, вольного каменщика, строившего соборы. Когда Эдуарду было немногим более двадцати, их ложа в поисках лучшего заработка, под покровительством тамплиеров, отправилась в Палестину, где Эдуард двадцать с лишним лет строил крепости и постигал искусство военного зодчества, в котором достиг немалых успехов. В 1291 году он возвратился в Европу вместе со всей ложей. Он говорил, что к тому времени устал от войны, тем более, что в его голове созрело множество планов касательно собора, которые он страстно хотел воплотить в жизнь. Но, к сожалению, во Франции каменщикам пришлось опять заниматься военным зодчеством. Последние полгода они перебивались случайными заработками. Мое предложение построить храм было встречено ложей, как небесный дар. По словам мастера, это была та самая работа, о которой он мечтал всю жизнь.
Каменщиков я временно поселил вместе с их семьями в Шюре, надеясь по весне начать строительство поселка для них. Я не хотел отпускать их из поместья после того, как будет построена часовня. Во-первых, потому что собирался приступить к очередной перестройке крепости, а во-вторых, артель каменщиков мне очень нравилась.
Они принесли в Шюре усердное, я бы даже сказал святое, рвение к труду. Работа для них была не просто трудом, необходимым для заработка, она была священным ремеслом, подобным труду священника или рыцаря. Каменщики с великим почтением относились ко всему, сопутствующему их ремеслу — к инструментам, материалу, рабочей одежде. Когда я спросил их о столь удивительном отношении к ремеслу, один молодой человек, подмастерий, ответил мне:
— Мы строим земные обители подобно тому, как Господь возводит обители небесные. Как у нас есть планы, инструменты и материалы для наших работ, так и у Господа есть все необходимое для того, чтобы вселенная, архитектором и строителем которой он является, была просторнее и крепче, чтобы в ней находилось место всему доброму и светлому, чтобы никакой противник не смог ее сокрушить.
Когда Эдуард показал мне планы часовни, которую планировалось возвести на месте казни Гвинделины, я проникся к нему еще большим уважением. Он прекрасно понял мой замысел и везде — в витражах, барельефах, узорах алтаря незаметно присутствовал образ Гвинделины. Оказывается, история моей любви стала известна многим. Трубадуры слагали баллады, одну из которых исполнил Эдуард, аккомпанируя себе на лютне. Он признался, что авторство принадлежит ему, и что написана она так, как сочиняли баллады у него на родине, в Шотландии: