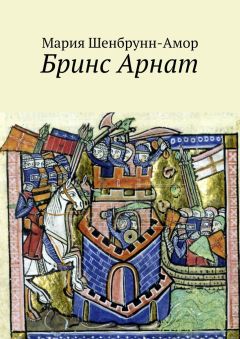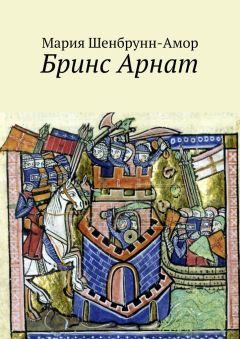Иария Шенбрунн-Амор - Железные франки
Выбирать снедь, готовить из нее нечеловеческую вкуснятину и кормить ею – для него означало любить своих друзей и делиться собой. Ника могла бы существовать на одном какао и холодных, ватных сэндвичах кафетерия, но покорно слушалась: выбирала самые спелые дыни и красивые артишоки, наполняла пакеты, расплачивалась, улыбалась в ответ на комплименты рыночных торговцев, терпеливо ждала сдачу с протянутой рукой, которую продавец отдавал неохотно, задерживая щепоть над ее раскрытой ладонью, не потому, что ему было жалко денег, а чтобы продлить удовольствие от общения с хорошенькой покупательницей, погружая свой наглый, смеющийся взгляд в очередные женские глаза.
В тот день, покинув тенистые, пахнущие зеленью, прохладные ряды рынка, они вышли на раскаленную, залитую солнцем улицу, просочились в заторе прохожих и машин и спустились в темную винную лавочку. Итамар выбирал дешевое вино с такой дотошностью и пристрастием, словно искал сосну для мачты адмиральской бригантины, наложницу в гарем шахиншаха, алмаз в кольцо невесты, нектар и амброзию из винных подвалов барона Ротшильда. Вывалил, не считая, мятые купюры на прилавок, высыпал звенящую мелочь.
Он тащил корзины с годовым урожаем страны так гордо, как будто вел за собой караван рабов и скота, а когда они вернулись в прохладную тишину дома, бросил добычу на старинную сине-коричневую арабскую плитку пола и сгреб Нику в охапку.
Незадолго до прихода гостей поспешно застлали старым покрывалом продавленное «ложе страсти», которому предстояло служить диваном для гостей, и полуодетые, потные, счастливые, принялись стряпать под вдохновляющие раскаты Carmina Burana, запивая каждый этап красным вином.
Итамар отдавался готовке со своей всегдашней шальной энергией: в ритме стаккато измельчал салат, пачкал гору посуды, разбрасывал вокруг укроп, разливал оливковое масло, овощи тушил и жарил картошку с непременным исполнением придуманных им кулинарных обрядов, а Никой-поваренком руководил деспотично и торжественно, словно дирижер – оркестром, полководец – полками, режиссер – статистами: кричал с балкона, вопил из душа, отрывался от мобильника:
– Почисть картошку! Порежь морковь. И лук. Кубиками! Листья салата надо рвать, не резать. И помельче! Так. Теперь вывали все на сковороду. Ты куда? А картошку кто мешать будет? Налей масло, я иду жарить мясо! – Так тореадор идет закалывать быка.
Дверь распахнулась, ворвались радостные гости. На кухне стало тесно, все приветствовали друг друга, обнимались и рассаживались. Весь вечер пирующие вкушали, возлияли, смеялись и восхваляли кулинарные таланты Ники и Итамара. К полуночи все было съедено, выпито, стол напоминал Помпеи, в раковине извергался объедками Везувий грязной посуды, дым сигарет тучей стоял в воздухе.
Проводив последнего гостя, Итамар вернулся счастливый и торжествующий, покрутил отбивающуюся Нику в воздухе, поцеловал и с детской хитростью заявил:
– Ну, я готовил, будет только честно, если ты уберешь!
Он был молод, весел, полон сил и надежд, он владел миром и Никой и щедро одаривал уверенностью, что впереди их ожидает лишь слава, счастье и любовь. Выгребая из карманов мелочь на дешевое бухло, он чувствовал себя Ротшильдом: ему не приходило в голову жалеть или беречь несметное богатство – мгновения своей жизни. С мотовством юности, не считая и не скупясь, Ника с Итамаром транжирили эти лучшие дни, убежденные, что им еще несть, несть, несть числа…
Осень выдалась дождливой и пасмурной, а рано начавшаяся зима – ветреной и студеной. Несмотря на полыхавшие в каминах гигантские дубы и кедры, на расставленные повсюду жаровни, на множество свечей в руку толщиной, в замке царили темень и сырость, по коридорам носились сквозняки, от камня стен и полов тянуло стылым холодом. Шерстяные и пуховые одеяла, суконные и меховые покрывала тяжелели от влаги, персидские ковры гнили на плитах, от дыхания шел пар, с мозаик приходилось смывать черную плесень. К утру оставленная в кувшинах вода затягивалась ледком, в часовне паства цепенела, как в склепе.
И все же пусть никогда бы не кончалось это суровое, темное время, потому что этой зимой они стали единой плотью и кровью, а весной любимый уйдет на осаду Алеппо. Пусть нынешнее тревожно, а будущее неведомо, но пока Раймонд рядом с ней, она будет радоваться и веселиться, отложив невыносимую тревогу на время его походов и своего одиночества.
Покуда за пределами Антиохии рыскали враги, города заливали ливни и в полях выли ураганы, в ее опочивальне пылал камин, вокруг мягкой, как лебяжий пух, кровати колыхались расшитые золотом и серебром бархатные пологи, горели в канделябрах свечи, переливался в хрустальных кубках подогретый ароматный гипокрас с корицей. Каждую ночь она спала в объятиях Раймонда, в мягкой сердцевине нагретого их телами гнезда, за пределами которого случайно выпростанную руку или ногу тут же охватывал ледяной холод. Плечо ее возлюбленного грело, как его сердце, кожа его, незащищенная доспехами, была нежнее шелка, его запах стал родным, как запах собственных волос.
Оказалось, что внимание рыцаря намного легче привлечь, если интересоваться им и тем, что волнует его, а не хвастаться почерпнутыми у отца Мартина познаниями. Констанцию это нисколько не обижало. Раймонд – ее светило, ее повелитель, она – его верная прохладная тень, согревающий огонь, утоляющая жажду влага. Ее счастье – в служении ему, но и она необходима супругу, как вода и огонь.
Раймонд – не угодник дам, а воин, охотнее всего он говорил о войне:
– В Европе конные армии несутся друг на друга с копьями наперевес, сшибаются и вступают в рукопашную сечу. Но здешние тюркские полчища, они как вода: расступаются перед нами, чтобы сомкнуться позади, возникают из ниоткуда и исчезают в никуда, носятся вокруг и жалят, как рой бешеных ос, только небо темнеет от дождя стрел.
Любимый чертил на ее животе схемы сражений, втыкал воображаемый стяг в пупок, расставлял арбалетчиков на ребрах, устраивал засады в ложбинках у бедренных костей, вел кавалерийские отряды туркополов в обход груди. Смех Констанции стряхивал воображаемых воинов с неприступных позиций:
– А страшно в бою?
– Страшно? – в задумчивости он прижал жену к себе так, что она охнула. – Перед боем, конечно, в животе словно клубок змей, но волнение, возбуждение и воодушевление захлестывают любой страх. А в самой драке бояться и подавно некогда: в бою я как пьяный, только радость и отчаянность. Ты не один, ты рядом со всеми своими и чувствуешь все вместе – и бешеный азарт, и усталость, и жару, и жажду, и неимоверную тяжесть в руках и ногах. Зато никогда я не бываю так сосредоточен, силен и уверен в себе, как в рукопашной.