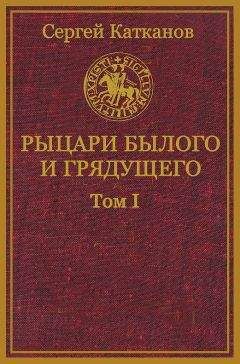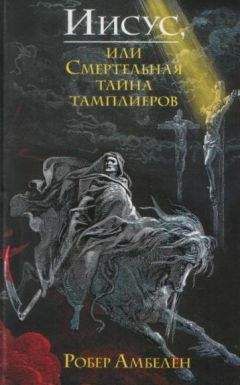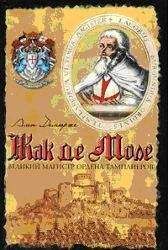Виталий Гладкий - Сокровище рыцарей Храма
Двухэтажный дом на Шулявке принадлежал одной купеческой вдовушке. Чуть поодаль виднелась церковь Марии Магдалины. Дом был ветхим и неказистым с виду. Ему здорово досталось в 1905 году, когда шли бои за Шулявскую республику[34]. Деревянная обшивка дома была сплошь иссечена пулями, а беседку во дворе разворотило гранатой. Ремонтировать ее никто не стал, благо беседку густо обвил дикий хмель и скрыл следы разора.
После смерти мужа все его дела пришли в расстройство, поэтому вдова некоторое время терпела большую нужду, и только связь с Серегой Матросом не позволила ей выйти на панель и попасть в руки какой-нибудь «мамаши», содержательницы дома терпимости, наподобие Камбалы. Она безропотно выполняла все прихоти своего сожителя и была предана ему до мозга костей.
Семиножко потоптался немного у входа, а затем решительно дернул за короткую цепочку с медной шишечкой на конце. Где-то в глубине дома раздался мелодичный звон. Спустя какое-то время женский голос по другую сторону входной двери спросил:
— Кто там?
— Мне нужен Серега Матрос, — ответил Семиножко.
— Здесь… нет такого, — не очень уверенно сказала вдова.
Матросу казалось, что никто не знает, где находится его «нора». По этой причине он, похоже, не удосужился как следует проинструктировать свою пассию на предмет конспирации. Это Семиножко сразу сообразил, уловив волнение в ее голосе. Значит, Матрос дома.
— Кончай травить, тетка, — сказал он намеренно грубо, подделываясь под наглое высокомерие жиганской речи. — Меня прислал к нему Федька Графчик. Срочное дело. Открывай!
Наверное, вдова, забитое, хотя и довольно симпатичное существо, отодвинула засов чисто инстинктивно. Она привыкла, что ею всегда кто-то командует или помыкает, и грозный голос незваного гостя включил рефлекс повиновения.
Увидев Семиножко, от которого за версту перло казенным полицейским духом, вдовушка мигом сообразила, что опростоволосилась. Она тихо охнула и хотела закричать, чтобы предупредить своего возлюбленного, но не успела. Пристав закрыл ей рот своей широкой потной ладонью и ловко нажал на сонную артерию. Спустя считаные секунды вдова потеряла сознание, и Семиножко осторожно усадил ее на пол.
Достав револьвер, пристав начал подниматься по лестнице на второй этаж, стараясь ступать как можно тише. От агентов ему было известно, что Матрос выбрал себе комнатку повыше: и обзор оттуда лучше — вся улица видна — и окна выходят на обе стороны дома. В случае необходимости он мог бежать через сад.
Этого-то Семиножко как раз и боялся больше всего. Он знал, что Серега Матрос очень осторожен и застать его врасплох трудно, если не сказать — невозможно.
Приставу потрясающе повезло. Сначала с вдовой, недалеким, доверчивым созданием, а затем и с ее квартирантом. Когда Семиножко потихоньку отворил дверь комнаты Матроса, то увидел, что тот дрыхнет, как сурок. Причина сонного состояния жигана была, что называется, налицо: возле канапе[35], на котором валялся Серега, стоял столик с бутылками и закуской.
Наверное, Матрос решил сегодня никуда не ходить и подлечить свои нервы народным способом. Для этой цели он вылакал полторы бутылки «Смирновской», закусил копченым салом и солеными грибочками и теперь почивал сном праведника.
Серега не проснулся, даже когда Семиножко изъял его оружие, спрятанное под подушкой, на которой покоилась кудрявая голова хмельного жигана. Понюхав ствол нагана, пристав с удовлетворением ухмыльнулся — пахло свежей пороховой гарью.
Удобно устроившись неподалеку от канапе на венском стуле (для мягкости подложив под свой широкий зад подушку-думку), Семиножко напевно — как старый сказочник — сказал:
— А не пора ли вставать, соколи-и-ик?
Матроса будто пружиной подкинуло вверх. При этом он успел сунуть руку под подушку, но вытащил оттуда не наган, а одежную щетку, которая до этого лежала на полочке у входной двери и которую Семиножко, большой шутник, подложил ради смеха.
— Пух, пух! — изобразил звуки выстрелов пристав. — Два сбоку, ваших нет. Не дури, Матрос! — резко бросил Семиножко, заметив, что жиган, опомнившись, начал звереть и уже готов был броситься на незваного гостя с голыми руками, несмотря на то что Петр Мусиевич держал его на мушке своего «Смит-Вессона». — Я пришел поговорить. Просто поговорить. Понял?
— Понял… — буркнул Матрос, с ненавистью глядя на Семиножко. — Как вы сюда попали?
— Так же как и ты — через дверь.
— А где?..
— Отдыхает, — коротко и жестко ответил пристав, поняв, о чем хотел спросить жиган.
Немного подумав, Серега сумрачно кивнул. А затем налил себе полный лафитник водки и выпил одним духом. Крякнув, он понюхал хлебную корку и спросил:
— О чем будем говорить?
— О тебе, касатик, о тебе.
— Обо мне мы уже все перетерли, переговорили. Или вы забыли наш уговор? — в его голосе явственно прозвучала угроза.
— Нет, не забыл. Но вот у тебя память короткая. Мы договаривались не становиться друг другу поперек дороги. А сегодня ты едва не пустил меня в распил. Я жив остался только потому, что ты не успел вовремя вынуть свой наган. Или, думаешь, я тебя не узнал? И как нам теперь быть? Ты ведь полицейского тяжело ранил. Может, он даже не выживет… спаси его Господь, — перекрестился Семиножко (револьвер пристав держал в левой руке).
— Так уж вышло. Я не хотел…
— Вот и я не хотел ворошить прошлое, но пришлось.
— Что вы от меня хотите? Но еще раз предупреждаю: фиксонить[36] я не буду!
— Да будет тебе… хе-хе… — изобразил добродушие Семиножко. — У нас и без Сереги Матроса среди киевских мазуриков и жиганов хватает агентов. Эка невидаль… Не все же такие глупые, как ты.
— Значит, вы пришли, чтобы арестовать меня, потому что я ранил фараона?
— А разве я это говорил?
— Нет, но…
— Я пришел, чтобы сделать размен — баш на баш.
— Не понял… Это как?
— Я не доложу по инстанциям, что узнал жигана, пулявшего по полицейским на Гончаровке, а ты расскажешь мне, что за история раскручивается вокруг Васьки Шныря.
— Вон оно что… — Матрос немного приободрился и даже повеселел. — Всего-то…
— Да, всего-то. Как видишь, обмен наш совсем неравноценен. Ты можешь прямо сейчас годы каторги разменять на какого-то кислого «щипача». Думаю, смысл в этом есть, и большой. Не так ли?
— В общем, так… — Серега колебался.
Он лихорадочно думал. Матрос знал, что Семиножко умеет держать слово. Обитатели киевского «дна» ему верили.
Если пристав брал кого-то в оборот, то его не могло спасти ничто, но ежели он проявлял к мазурику снисхождение, то в этом случае вор (а иногда и жиган) мог быть совершенно спокоен, потому что Семиножко умел начинать отношения с чистого листа — будто раньше ничего и не было.