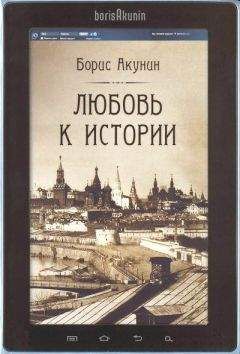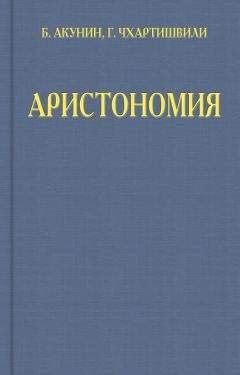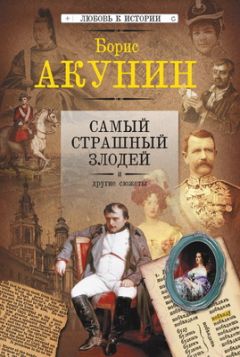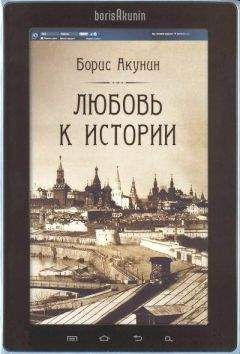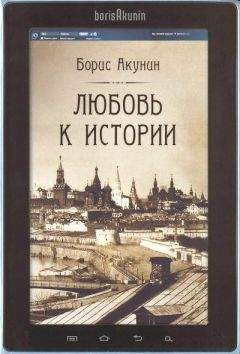Яма - Акунин Борис "Чхартишвили Григорий Шалвович"
Мною же всегда владело очень японское стремление к сэйдзицу. В европейских языках нет точного перевода для этого понятия. Каждый раз мне приходилось подыскивать какие-то приблизительные слова, близкие по смыслу.
– Anständiger Mann [17], – пояснил я ван Дорну, хотя это не совсем сэйдзицу. – Знайте же: ваш клиент – злодей и преступник. Он приказал убить мсье дез Эссара, чтобы завладеть его картиной. И это далеко не единственное преступление вашего «Э.П.». Его подручные сегодня похитили моего друга, которого вы вчера видели, и еще двух женщин. Мой вам совет: прекратите все сношения с фон Дорном. Это очень опасный человек.
– О боже, – пролепетал ван Дорн, побледнев. – Я так и чувствовал, что добром это не кончится. Слишком уж всё было похоже на сказку. Но какой ужас, что герра Фандорина похитили! Неужели это из-за моей телеграммы?
Я промолчал, чтобы еще больше не отягощать совесть почтенного историка.
– Могу ли я… Могу ли я хоть как-то искупить свою вину? – Его голос дрожал от волнения. – Скажите, я всё сделаю!
– Вы можете сделать три вещи. Вернее, две вещи сделать и одну не сделать.
– Говорите!
– Начну с последней. Пожалуйста, не сообщайте «Э.П.» об этом разговоре.
– Обещаю! Я вообще больше никогда не буду ему писать!
– Во-вторых, есть ли у вас расписание поездов?
– Конечно. Мои исследования понуждают меня много путешествовать.
Он снял с полки брошюру, я открыл ее на страничке «Berlin» и обрадовался. Через полтора часа в столицу отправлялся поезд – как кстати.
– В-третьих, подарите мне, пожалуйста, ваши зеленые очки.
Выходя, я еще прихватил одну из тросточек герра ван Дорна, и на улице превратился в слепого. Шел, постукивал по тротуару палочкой. Если прохожие на меня и глядели, то с сочувствием.
Но меня мог выдать акцент. Поэтому на вокзале я пристроился неподалеку от билетной кассы.
Очень скоро я увидел того, кого ждал: молоденькую медхен, путешествовавшую в одиночестве.
Я замычал, протянул вперед бумажку. На ней было написано: «Высокочтимый (Sehr geehrter) господин или высокочтимая госпожа, я слепой и немой от рождения. Прошу вас купить мне билет до Берлина. Деньги у меня есть».

Напрямую к кассиру я не обратился, опасаясь, что тот предупрежден полицией и настроен на бдительность – может раскусить мой маскарад.
Барышня сначала, конечно, отпрянула. Потом, прочтя начало, нахмурилась – подумала, я клянчу милостыню. А в конце, как и следовало, была растрогана доверчивостью бедного калеки – я протянул ей свой бумажник.
Она тоже направлялась в Берлин и купила мне билет на соседнее место, а потом заботливо отвела в вагон и там тоже всё хлопотала. Накрыла меня своим пледом, предложила бутерброд и горячий чай. За плед я поблагодарил, от угощения отказался. Пища не лезла мне в горло.
Мы поехали.
Милая бесхитростная девушка рассказывала про свою милую бесхитростную жизнь (она, как Красная Шапочка, ехала проведать бабушку), я со своим неважным немецким половины не понимал, но просто наслаждался звуками нежного голоса.
Как же я люблю женщин. Если человечество чего-то стоит, то только из-за них. Они добрые, самоотверженные, терпеливые и терпимые, от них исходят любовь, тепло и ласка. А те из них, кто неласков, недобр и нетерпим, обладают другими, еще более драгоценными качествами. Ах Эмма, Эмма…
Мне было всего тридцать девять лет, я пока не вышел из возраста глупости. Я еще не знал, какими бывают женщины.
– Ой, у вас из-под очков слезы текут, – сказала моя спутница. – Вы, наверное, очень страдаете? Представляю, как это ужасно – ничего не видеть, ничего не говорить.
И заплакала сама.
Вот я пишу сейчас эти строки, и мои глаза тоже заволакивает влага. Прошло много лет, но проклятое писательство лишь растревожило старую рану. Зачем, зачем я стал ее бередить?
Не буду продолжать. Тем более что после отъезда из Марбурга мне было не до ведения дневника, и дальнейшие события сохранились у меня в памяти какой-то сумбурной чехардой.
Увы, моя вторая попытка стать писателем вновь оказалась неудачной.
На этом рукопись Масахиро Сибаты обрывается.
Часть вторая
Сокрытое во тьме
Все люди разные
(Продолжение)

Брюнет с аккуратными черными усиками медитировал в позе «Спящий тигр». Это самый лучший способ взять под контроль ярость, которая клокочет внутри. Ярость была не гневная, не горячая, а холодная, никогда не перегорающая, потому что мерзлота, в отличие от огня, пожирающего самого себя, вечна. Медитация сжимала ярость, как пружину, всё существо наполнялось звенящей силой.
Он приготовил себе подарок, небольшой красивый праздник. Потому что любил себя баловать и любил красивое. В конце концов даже бог имеет право на отдых. Вот и в христианской Книге сказано: «И завершил Господь к седьмому дню дела Свои, и почил от всех дел, которые делал».
Глаза с огромными черными зрачками на несколько мгновений открылись, осмотрели помещение. Тонкие губы тронула улыбка. И поглядел Бог вокруг на то, что Он сделал, и сказал себе: это хорошо.
Этюд был подготовлен безупречно. Луч лампы высвечивает зелень нефрита, иероглифы начертаны с элегантной небрежностью, волосы сидящей девы отливают бронзой. Остается только дождаться гостя. Он в пути, скоро будет здесь. Ожидание праздника – тоже праздник. Спешить некуда.
На столе лежала пришедшая накануне телеграмма из Марбурга, во всех отношениях приятная.
Быстрый стук. Голос:
– Господин, экстренное сообщение из Парижа!
Ресницы снова открылись и больше уже не закрывались. Зрачки стремительно сузились. Цвет глаз оказался бирюзовый, с ледяным отливом.
Тронув узкой рукой висок (он был седоватый, словно примороженный инеем), брюнет тихо спросил очень молодого человека, просунувшего голову в дверь:
– К-кто ты? Я тебя раньше не видел.
– Кнобль, дежурный… Я только что закончил школу. Первый день здесь.
Парень очень волновался.
– Я же отдал рафи`ку п-приказ не беспокоить меня ни при каких обстоятельствах. Ни-при-каких.
– Но рафик проверяет посты, а пришла телеграмма. Там написано: «Сверхсрочная. Вручить немедленно».
Сидящий вздохнул, протянул руку.
– Давай.
Прочитал. Поморщился. Блаженное состояние было разрушено, праздник испорчен.
Минувшей ночью ему приснился кошмар. Будто он – не он, а кто-то совсем другой, в ком не леденеет безмолвная вечная ярость, а журчит родник, горячий ключ, и вокруг не ночь, а сияющий день. Никогда, никогда раньше ему не снился день, только ночь, только темнота. Отвратительный сон, не к добру.
Так и вышло. В Париже очередной кризис, требующий вмешательства. И праздник отменяется. Нет времени.
Ярость вонзалась в сердце острыми ледяными иголками, требовала выхода.
Нажал на кнопку, вызвал местного рафика.
– Еду в Париж. Немедленно. – Набросал несколько строчек на листке. – Это отправить Лябурбу.
– Слушаю, господин.
Рафик чувствовал неладное. Пальцы на левой руке, заложенной за спину, нервно сжимались и разжимались.
– Так как тебя зовут? – повернулся брюнет к дежурному. – А да, Кнобль.
Приказал старшему:
– Собрать фидаинов.
Через минуту все кроме часовых, шесть крепких парней в одинаковых черных сюртуках, стояли перед столом в ряд.
– Я отдал приказ не беспокоить меня ни при каких обстоятельствах, – сказал брюнет, прохаживаясь вдоль шеренги и поочередно глядя в лицо каждому. – Вам ведь известно, что приказы нарушать нельзя?
Все молчали.