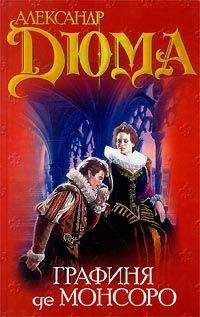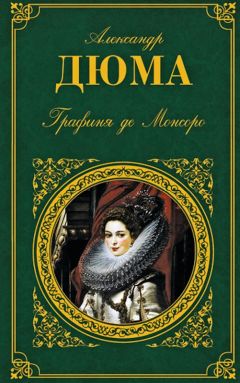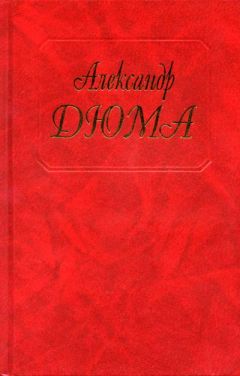Александр Дюма - Графиня де Монсоро. Том 2
Эта исповедь встревожила Шико совсем на иной лад, чем присутствие в Париже короля Наваррского. Он чувствовал, что приближается момент, когда Горанфло произнесет его имя, которое может озарить мрачным светом всю тайну. Гасконец не стал терять времени. Он где отвязал, а где и перерезал поводья лошадей, ластившихся друг к другу у коновязи, и, отвесив парочку крепких ударов ремнем, погнал их в самую гущу толпы, которая при виде скачущих с отчаянным ржанием животных раздалась и бросилась врассыпную.
Горанфло испугался за Панурга, дворяне – за своих коней и поклажу, а многие испугались и сами за себя.
Народ рассеялся. Кто-то крикнул: «Пожар!», крик был подхвачен еще десятком голосов. Шико, как стрела, пронесся между людьми, подскочил к Горанфло и, глядя на него горящими глазами, при виде которых монах сразу протрезвел, схватил Панурга под уздцы и, вместо того чтобы последовать за бегущей толпой, бросился в противоположную сторону. Очень скоро между Горанфло и герцогом де Гизом образовалось весьма значительное пространство, которое в то же мгновение заполнил все прибывающий поток запоздалых зевак.
Тогда Шико увлек шатающегося на своем осле монаха в углубление, образованное абсидой церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа, и прислонил его и Панурга к стене, как поступил бы скульптор с барельефом, который он собирается вделать в стену.
– А, пропойца! – сказал Шико. – А, язычник! А, изменник! А, вероотступник! Так, значит, ты по-прежнему готов продать друга за кувшин вина?
– Ах, господин Шико! – пролепетал монах.
– Как! Я тебя кормлю, негодяй, – продолжал Шико, – я тебя пою, я набиваю твои карманы и твое брюхо, а ты предаешь своего господина!
– Ах! Шико! – сказал растроганный монах.
– Ты выбалтываешь мои секреты, несчастный!
– Любезный друг!
– Замолчи! Ты доносчик и заслужил наказание. Коренастый, сильный, толстый монах, могучий, как бык, но укрощенный раскаянием и особенно вином, не пытался защищаться и, словно большой надутый воздухом шар, качался в руках Шико, который тряс его.
Один Панург восстал против насилия, учиняемого над его другом, и все пытался брыкнуть Шико, но удары его копыт не попадали в цель, а Шико отвечал на них ударами палки.
– Это я-то заслужил наказание? – бормотал монах. – Я, ваш друг, любезный господин Шико?
– Да, да, заслужил, – отвечал Шико, – и ты его получишь.
Тут палка гасконца перешла с ослиного крупа на широкие, мясистые плечи монаха.
– О! Будь я только не выпивши, – воскликнул Горанфло в порыве гнева.
– Ты бы меня отколотил, не так ли, неблагодарная скотина? Меня, своего друга?
– Вы мой друг, господин Шико! И вы меня бьете!
– Кого люблю, того и бью.
– Тогда убейте меня, и дело с концом! – воскликнул Горанфло.
– А стоило бы.
– О! Будь я только не выпивши, – повторил Горанфло с громким стоном.
– Ты это уже говорил.
И Шико удвоил доказательства своей любви к бедному монаху, который жалостно заблеял.
– Ну вот, – сказал гасконец, – то он волк, а то овечкой прикидывается. А ну, влезай-ка на Панурга и отправляйся бай-бай в «Рог изобилия».
– Я не вижу дороги, – сказал монах, из глаз его градом катились слезы.
– А! – сказал Шико. – Коли бы ты еще вином плакал, которое выпил! По крайней мере, хоть протрезвел бы, может быть! Но нет, оказывается, мне еще и поводырем твоим нужно сделаться.
И Шико повел осла под уздцы, в то время как монах, вцепившись обеими руками в луку седла, прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить равновесие.
Так прошествовали они по мосту Менье, улице Сен-Бартелеми, мосту Пти-Пон и вступили на улицу Сен-Жак. Шико тянул осла, монах лил слезы.
Двое слуг и мэтр Бономе, по распоряжению Шико, стащили Горанфло со спины осла и отвели в уже известную нашим читателям комнату.
– Готово, – сказал, вернувшись, мэтр Бономе.
– Он лег? – спросил Шико.
– Храпит…
– Чудесно! Но так как через денек-другой он все же проснется, помните: я не хочу, чтобы он знал, как очутился здесь. Никаких объяснений! Будет даже неплохо, коли он решит, что и вовсе не выходил отсюда с той славной ночи, когда он учинил такой громкий скандал в своем монастыре, и примет за сон все, что случилось с ним в промежутке.
– Понял, сеньор Шико, – ответил трактирщик, – но что с ним стряслось, с этим бедным монахом?
– Большая беда. Кажется, он поссорился в Лионе с посланцем герцога Майеннского и убил его.
– О, бог мой!.. – воскликнул хозяин. – Так значит…
– Значит, герцог Майеннский, по всей вероятности, поклялся, что не будь он герцог, если не колесует его заживо, – ответил Шико.
– Не волнуйтесь, – сказал Бономе, – он не выйдет отсюда ни за что на свете.
– В добрый час! А теперь, – продолжал гасконец, успокоенный насчет Горанфло, – совершенно необходимо разыскать герцога Анжуйского. Что ж, поищем!
И он отправился во дворец его величества Франциска III.
Глава 2.
ПРИНЦ И ДРУГ
Как мы уже знаем, во время вечера Лиги Шико тщетно искал герцога Анжуйского на улицах Парижа.
Вы помните, что герцог де Гиз пригласил принца прогуляться по городу; это приглашение обеспокоило принца, всегда отличавшегося подозрительностью. Франсуа предался размышлениям, а после размышлений он обычно делался осторожней всякой змеи.
Однако в его интересах было увидеть собственными глазами все, что произойдет на улицах вечером, и поэтому он счел необходимым принять приглашение, но в то же время решил не покидать свой дворец без подобающей случаю надежной охраны.
Всякий человек, когда он испытывает страх, хватается за свое излюбленное оружие, и герцог тоже отправился за своей шпагой, а этой шпагой был Бюсси д'Амбуаз.
Должно быть, герцог был основательно напуган, если уж он решился на такой шаг. Бюсси, обманутый в своих надеждах касательно графа де Монсоро, избегал герцога, и Франсуа в глубине души понимал, что на месте своего любимца, если бы, разумеется, заняв его место, он одновременно приобрел и его храбрость, он сам испытывал бы по отношению к принцу, который его так жестоко предал, нечто большее, чем простое презрение.
Что касается Бюсси, то молодой человек, подобно всем избранным натурам, гораздо живее воспринимал страдания, чем радости: как правило, мужчина, бесстрашный перед лицом опасности, сохраняющий хладнокровие и спокойствие при виде клинка и пистолета, поддается горестным переживаниям скорее, чем трус. Легче всего женщины заставляют плакать тех мужчин, перед которыми трепещут другие мужчины.