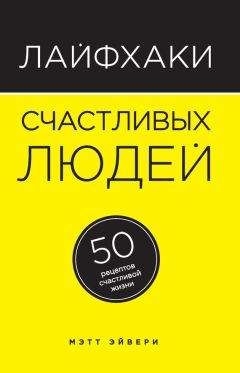Артур Дойл - Дядя Бернак
Гладко выбритый человек, стоявший всё время у окна, покусывая ногти, поклонился в ответ на этот вопрос императора.
— Я всё больше и больше убеждаюсь, Ваше Величество, что вы знаете имя каждого солдата в строю!
— Я думаю, что знаю большую часть из моих старых египетских ворчунов,— сказал он. — Кроме того, мсье де Лаваль, я должен помнить о каналах, мостах, дорогах, о промышленности, одним словом обо всех отделах внутренней жизни страны. Законы и финансы в Италии, колонии в Голландии — всё это тоже занимает много места в моей голове. В наши дни, мсье де Лаваль, Франция предъявляет большие требования к своему правителю. Теперь уже мало одного умения с достоинством носить царскую порфиру или мчаться за оленями по лесам Фонтенбло!
Я вспомнил беспомощного, красивого, любившего более всего роскошь и блеск, Людовика, которого я видел, будучи еще маленьким, и понял, что Франция после пережитых волнений и страданий нуждалась в твердой и сильной руке.
— Как вы об этом думаете, мсье де Лаваль? — спросил Император. Он на минуту остановился около огня и грел свою ногу, изящно обутую в туфлю с золотой пряжкой.
— Я вполне убедился, что это именно так и должно быть, Ваше Величество!
— Вы пришли к правильному выводу,— сказал он мне в ответ. — Но вы, кажется, и всегда держались того же взгляда. Верно ли мне передавали, что в одном кабачке Эшфорда вы однажды выступили в мою защиту против молодого англичанина, пившего тост за мое падение?
Я вспомнил происшествие, но не мог понять, откуда он мог слышать о нем.
— Почему вы сделали это?
— Я сделал это инстинктивно, Ваше Величество!
— Я не могу понять, как это люди могут делать что-нибудь инстинктивно! По-моему, это возможно только для сумашедших, но не для здравомыслящих людей. Из-за чего рисковали вы жизнью, защищая меня в то время, когда вы ничего не могли ждать от меня?
— Вы стояли во главе Франции, Ваше Величество, а Франция — моя родина! — горячо возразил я.
Во время этого разговора он продолжал ходить по комнате, сгибая и разгибая правую руку и иногда взглядывая на нас через монокль, так как его зрение было настолько слабо, что в комнате он был принужден пользоваться моноклем, а под открытым небом он всегда смотрел в бинокль. По временам он доставал щепотки нюхательного табаку из черепаховой табакерки, но я видел, что ни одна из них не попадала по назначению — он просыпал весь табак на свой сюртук и на пол.
Мой ответ, по-видимому, понравился ему, потому что он вдруг схватил меня за ухо и стал пребольно трясти его.
— Вы вполне правы, мой друг,— сказал он,— я стою за Францию, как Фридрих II за Пруссию. И я сделаю Францию могущественнейшей державой в мире! Все государи Европы сочтут необходимым иметь свой дворец в Париже, и они составят свиту при коронации моих преемников!
Внезапно его лицо приняло выражение мучительного страдания.
— Господи! Для кого же я создаю всё это? Кто будет царствовать после меня? — прошептал он, проводя рукою по лбу. — Боятся ли они моего вторжения в Англию? — внезапно спросил он. — Высказывали ли англичане вам свои опасения, что я могу перейти через Ламанш?
Я был принужден сознаться, что англичане опасаются обратного, то есть что он оставит этот план и не перейдет через Ламанш.
— Их солдаты завидуют морякам, которые первые будут иметь честь бороться с вами,— сказал я.
— Но у них очень маленькая армия!
— Да, но надо принять во внимание, что почти вся Англия пошла в волонтеры.
— Ну, новобранцы не опасны! — воскликнул он, точно отбрасывая их руками. — Я высажусь со стотысячной армией в Кенте или в Суссексе. Я дам там большое сражение и выиграю его с потерей десяти тысяч человек. На третий день я буду в Лондоне. Там я немедленно захвачу государственных чиновников, банкиров, купцов, издателей газет. Я потребую вознаграждения в размере ста миллионов фунтов стерлингов! Я буду покровительствовать бедным на счет богатых и таким образом буду иметь их на своей стороне. Я дам автономию Шотландии и Ирландии; это даст им преимущество перед Англией. Таким образом я везде вызову раздоры. И затем уже потребую отдать мне их флот и укрепить за Францией английские колонии в вознаграждение за то, что я покину их остров! Я достигну всемирного владычества для Франции и укреплю его за нею навеки!
Из этих слов я вполне убедился в том, что в Наполеоне была поистине удивительная черта характера, о которой мне уже говорили и раньше: эта черта характера давала ему возможность совмещать широту замыслов с разработкой мельчайших деталей, которая ясно указывала, что эти замыслы не выходили за пределы возможного. В его мозгу мысль о походе на Восток, точно легкий неясный сон, сменялась думой о судах, портах, запасах, войсках, которые будут необходимы, чтобы мечта обратилась в действительность. Он сразу улавливал основную часть вопроса и разрабатывал его с тою решимостью, с какою он шел на столицу врагов. Обладая душой идеалиста-поэта, он в то же время был человеком дела, и это обстоятельство заставляло признать его опаснейшим из людей в целом мире.
Я думаю, что в этом монологе о своих намерениях и планах Наполеон имел затаенную цель (он никогда ничего не делал бесцельно), и в данном случае он рассчитывал на эффект, который мои слова о нем могли бы произвести на эмигрантов.
Не существовало, казалось, ничего, что бы было не по силам его разуму, и всякое маленькое дело его необыкновенный разум умел возвысить так, чтобы оно было достойно его величия. В один миг он переходил от размышления о зимних квартирах для 200 тысяч солдат к спорам с де Коленкуром об уменьшении домашних расходов и о возможности убавить число экипажей.
— Я стремлюсь быть как можно экономнее в домашней обстановке, но зато хочу показаться во всём блеске пышности и величия за границей,— сказал он. — Помню, когда я был лейтенантом, я находил возможность существовать на 1200 франков в год, и для меня не составит большого труда перейти и теперь к подобному же существованию! Необходимо приостановить эту расточительность во дворце! Например, из отчета Коленкура я вижу, что в один день было выпито 155 чашек кофе, что при цене сахара в 4 франка и кофе в 5 франков за фунт дает 20 су за чашку. Можно было бы убавить эту порцию. Счета по конюшням тоже слишком велики. При настоящей цене сена семисот франков в неделю должно вполне хватать на 200 лошадей. Я не хочу чрезмерных расходов на Тюильри!
Таким образом в несколько минут он переходит от вопроса о миллиардах к вопросу о копейках, и от вопросов государственного устройства — к лошадиному стойлу. Время от времени он вопрошающе взглядывал на меня, точно спрашивая мое мнение обо всём этом, и меня поражало, почему ему нужно было мое одобрение. Но, вспомнив, скольких представителей старого дворянства мог соблазнить пример моего поступления к нему на службу, я понял, что он смотрел на всё гораздо глубже, чем я.