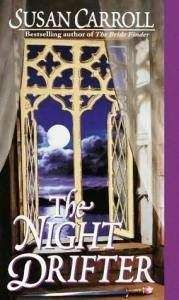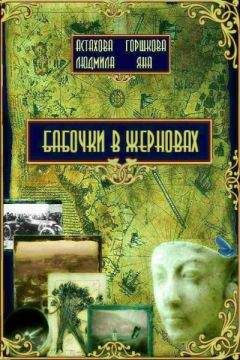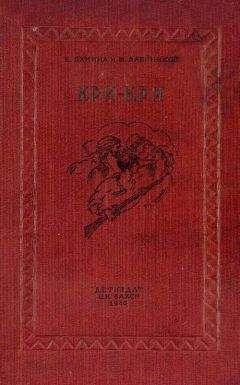Евгения Яхнина - Жак Отважный из Сент-Антуанского предместья
— К Ревельону?! Да ты с ума сошёл! Разве не знаешь, какой это живодёр?! Худший из худших. Как ни трудно сейчас найти работу, а с ним дела иметь нельзя. Не жалеешь ты своего братишку, что ли?
— А как же мне с Мишелем быть? Ведь в Таверни у нас есть нечего.
Брови Гамбри сошлись на переносице. Он дружески потрепал Жака по плечу и сказал:
— Ладно, не вешай носа! Все вы в Париж стремитесь. А здесь скоро будет ещё голодней, чем в деревне, если только народ вовремя не скажет своё слово… Завтра мне недосуг, потому что мы собираемся поговорить с Ревельоном по-свойски, а вот послезавтра в это самое время приходи ко мне. Обсудим, посоветуемся, куда твоего братишку девать, чтобы ему и сытно было и чтобы работа была не очень тяжела.
— Хорошо, что послезавтра, — обрадовался Жак. — Завтра с утра госпожа Пежо велела мне отправиться на тот берег Сены в один дом за книгами. Я там весь день проканителюсь.
— Идёт! До послезавтра!
С утра 27 апреля, взяв с собой обёрточную бумагу, верёвки и небольшую сумму денег, Жак по поручению тётушки отправился за книгами в богатый дом, где продавалась целая библиотека.
Весна в этом году не предвещала французам ничего доброго.
Позади были два неурожайных года. А нынче поля уже пострадали от жестокого града. В городах и деревнях опять не хватало хлеба.
Бремя налогов становилось всё тяжелее для населения.
Недовольство охватило всю Францию. В деревнях то и дело вспыхивали крестьянские бунты. Роптал и Париж. А особенно волновалось и роптало рабочее население Сент-Антуанского предместья.
Здесь жили преимущественно мебельщики и мастеровые, изготовлявшие соломенные сиденья для стульев. Кто из них не знал Ревельона! У него на фабрике работало четыреста рабочих, значит, четыреста семей кормилось около господина Ревельона. Но как кормилось, это другое дело.
Ревельон пользовался дурной славой. Ещё не прошло и двух лет с тех пор, как он круто расправился с рабочими своей другой фабрики, в Курталине. Рабочие там вздумали бастовать, но с Ревельоном не шути! Он был накоротке с полицией и, чуть что, прибегал к её помощи.
А сейчас Ревельон снова выступил против рабочих. На собрании избирателей третьего сословия в округе святой Maргариты он во всеуслышание заявил, что рабочий с семьёй может вполне прокормиться на пятнадцать су в день. Поэтому-де он сокращает наполовину жалованье своим рабочим. Но ведь хлеб-то стоил теперь четырнадцать с половиной су — разве не знал об этом Ревельон? А если знал, то чего добивался — не хотел ли просто довести до отчаяния тех, кто своими руками строил его благополучие?
Вдобавок Ревельон редактировал наказ третьего сословия от своего района и, подыгрывая аристократам, отказался включить в него требования рабочих.
Когда о выступлении Ревельона на собрании избирателей узнали в Сент-Антуанском предместье, возмутились не только рабочие с его фабрики, но и другой трудовой люд. Не составляли ли все рабочие и ремесленники одну большую семью бесправных, у которых теперь хотели отнять и то немногое, что они имели?
О том, что рабочие могут ещё туже подтянуть животы, говорил на собрании не только Ревельон, говорил и селитровар Анрио. Один стоил другого.
С утра 27 апреля над Сент-Антуанским предместьем как будто нависла тяжёлая туча. На бульварах деревья зловеще шелестели листьями, разросшимися так, словно то был не апрель, а знойное лето. Казалось, вот-вот разразится гроза, какое-то общее смятение чувствовалось в воздухе. Словно повинуясь неслышному приказу, лавки стали закрываться, с шумом захлопывались ставни жилых домов. Праздношатающиеся поспешили очистить улицы, не дожидаясь, чтобы их об этом попросили. А на улицах появились новые толпы. Откуда взялось столько людей?
Все взволнованы. В руках палки, жерди. Но что это? Идёт группа людей. На вытянутых руках одни несут чучела, изображающие хозяев предместья — Ревельона и Анрио, другие — большой кусок картона с надписью: «Приговор третьего сословия; Ревельона и Анрио повесить и сжечь на Гревской площади!»
— На Гревскую площадь! Там свершим правый суд! — слышатся голоса.
— На Гревскую! — вторят другие.
Все понимают: там собираются уничтожить не самих предпринимателей, а только их чучела. Парижане привыкли к такому зрелищу. Оно служит предупреждением; народ хочет, чтобы хозяева знали и понимали — кары им не избежать.
Еле пробиваясь по мостовой сквозь стену людей, медленно двигается роскошная коляска, в которой сидят два аристократа.
Гамбри отделяется от толпы, подбегает к экипажу, выхватывает из рук кучера поводья и спрашивает у седоков:
— Кто вы такие?
— Моя фамилия дю Тийе́.
— А ваша?
— Я — герцог де Люи́н, — робко произнёс второй.
— В таком случае, кричите: «Да здравствует третье сословие!» Да погромче! — требует Гамбри.
— Да здравствует третье сословие! — покорно крикнули аристократы.
Власти встревожились. Дело не шуточное — ведь в Сент-Антуанском предместье рабочих тысячи. На свои войска для подавления, пожалуй, рассчитывать не приходится, иноземные надёжнее. Всего лучше для этого швейцарцы. Их много сейчас скопилось в Версале, где они охраняют королевский дворец.
Часть восставших направилась к роскошному особняку Ревельона, но тут перед ними возникло неожиданное препятствие: охранявшие его военные отряды. Кто же так быстро осведомил полицию? Откуда взялись войска?
Замешательство длилось недолго.
— Друзья! — крикнул Гамбри. Он шёл теперь впереди, неся на вытянутых руках модель виселицы с болтавшейся на ней фигуркой Ревельона. — Селитровар Анрио ничем не лучше Ревельона. Идём к особняку Анрио!
И все бросились к дому селитровара. В толпе замелькали длинные шесты. У многих в руках оказался инструмент: у кого молоток, пила, у кого лекало. Это потому, что к восставшим присоединилось много рабочих-инструментальщиков.
— Вот как живут те, кто предлагают нам кормиться на пятнадцать су в день!
В самом деле, пышный дом Анрио с лепными украшениями на стенах и тяжёлыми шёлковыми драпри на окнах выглядел особенно богатым и роскошным, когда возле него толпились сейчас плохо одетые, истощённые голодом бедняки.
— Тащи мебель! Выноси из дома! Мы устроим сейчас хороший костёр!
Десятки крепких рук стали выбрасывать из окон дорогую мебель фабриканта. Внизу её подхватывали такие же уверенные руки; и восставшие по двое, а то и по трое тащили её прямо на Гревскую площадь.
— Сжечь её! Проучим богачей!.. — такова была воля сотен собравшихся людей.
Слухи о восстании в Сент-Антуанском предместье быстро распространились по Парижу. Толпы рабочих из квартала Нотр-Дам присоединились к восставшим. Появился ещё другой плакат: «Пусть будут снижены цены на хлеб и на мясо!»