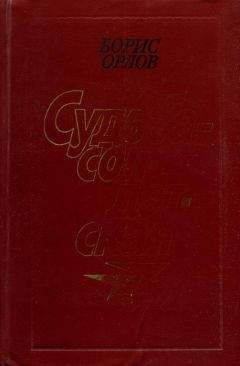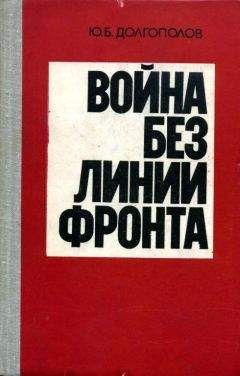Эд. Арбенов - В шесть тридцать по токийскому времени
Двинуться следом или повернуть назад, в отель? Меня подмывало плюнуть на все это, объявить полковнику, что затея со слежкой за пассажиром грузового катера бессмысленна. Глупа просто.
Но это была только мысль. Тогда я не умел еще превращать желания в действия. Я подчинялся силе инерции.
Мои подопечные — их теперь было двое — шли к японскому консульству, о чем-то мило переговариваясь. Иногда до меня долетал сдержанный смех дамы — «гость» рассказывал ей что-то смешное. На Ин-Юан-лу они свернули направо, в сторону Амура. Река была близко, метрах в двухстах, и шум волны, гонимой к берегу северным ветром, явственно слышался.
У Амура ночью делать нечего, особенно в такую погоду: тьма, дождь, холод, а они шли именно к Амуру. И это меня смущало. Пугало даже. После четырехчасового душа мне никак не улыбалась прогулка по берегу под шквальным ветром. Мои бедные зубы жалобно постукивали, и весь я продрог, как тот бездомный пес у подъезда.
Совершенно измученный этой борьбой с холодом, я доплелся кое-как до конторы золотопромышленной компании и здесь остановился, решив для себя, что шагу больше не сделаю. Они поняли, видно, мое состояние (чего только не придет в голову отчаявшемуся преследователю) и тоже остановились. Но не у конторы, а на тротуаре, под облетевшими деревьями. Дальше была кромка берега, дальше был Амур.
«Зачем? Почему, — спрашивал я себя, — эти люди ночью пришли к реке? Есть ли тут какая-то причина?» Я все еще пытался определить смысл поступков Сунгарийца. Тайный смысл, интересующий нас, полковника Янагиту и меня. То, что люди ходят по земле, едят, пьют, любят, мечтают, относилось к ряду обыденных явлений, стоящих по ту сторону интересов секретной службы. Это был иной, не наш мир. В нашем же мире все подчинялось скрытой цели, опасной для дела, которому мы служили. Обыденное, если оно вдруг встречалось, полковник, ну и я, следовательно, воспринимали как маскировку.
Но маскировка не вечна. Где-то она должна быть сброшена, как костюм актера после спектакля. Где сбросит ее Сунгариец? Не на берегу же Амура? Более неподходящего места трудно придумать.
А есть ли костюм?
Что-то не верилось в его существование. Передо мной были просто люди с обычными человеческими слабостями, которые проявлялись к тому же слишком наивно. Они искали уединения в дождливую осеннюю ночь, как ищут ее юные существа, стесняясь своих чувств и желаний. Мне было отчего-то жаль их…
Когда они сели на скамейку под голыми ветвями осины, на мокрую скамейку, и, опустив зонт прямо на головы и плечи, замерли, мне захотелось подойти к ним и сказать шутливо: «Как же глупы вы! Как вы глупы!» Или в сердцах обругать за мучительную ночь для меня, за то, что я мок на дожде и зяб на ветру. И ничего-ничего не узнал.
Но они целовались, наверное целовались, и я не подошел к ним. Я повернулся и зашагал назад к отелю, шлепая по глубоким холодным лужам…
В два часа ночи я постучал к полковнику. Осторожно, одним пальцем, чтобы не привлечь внимания консьержки, дремавшей в кресле в конце коридора.
Полковник не спал. Он умел не спать по ночам, доводя до изнеможения своих подчиненных. Они вынуждены были по его примеру до рассвета иногда не смыкать глаз.
Шеф сидел за столом в той же самой позе, что и в шесть десять вечера, когда я покинул его, и изучал через свои маленькие, в золотой оправе, очки все те же бумаги. Или мне так показалось. Во всяком случае они были секретными, потому что, когда я вошел, он прикрыл их газетой. Мы не доверяли друг другу. Все не доверяли…
— Выпейте коньяку! — сказал шеф и достал из шкафа бутылку.
Я расценил это как проявление заботы о подчиненном. Вид мой был слишком красноречивым. Чего стоила одна шляпа, превращенная дождем в тряпку! И весь я походил на утопленника, только что извлеченного из воды.
Шеф нацедил в стакан коньяку и подал мне. Я выпил торопливо, и зубы мои при этом, кажется, стучали. Потом я разделся и сел в кресло против стола полковника. Он и здесь, в отеле, расставил мебель, как в своем кабинете.
— Это или слишком глупый или слишком умный человек, — сказал Янагита, глядя на меня и читая довольно легко мои мысли. Он говорил о Сунгарийце. О ком еще можно было говорить после возвращения подчиненного с задания? Шеф понял, что я ничего, ровным счетом ничего интересного не узнал и зря убил вечер. Да что вечер, ночь почти. — Вы не находите?
Я не ответил. Насчет умственных способностей «гостя» с левого берега у меня не было никакого мнения. Я неопределенно пожал плечами, только и всего.
— Вам трудно судить о нем, — объяснил мое молчание Янагита. — Вы его просто не знаете…
Это шеф говорил для себя — чужое мнение в данном случае не играло никакой роли. Полковник умел сам задавать вопросы и сам отвечать на них. Обычно такая беседа продолжалась довольно долго. На этот раз неожиданно оборвалась.
— И не узнаете… Я не вижу необходимости поручать кому бы то ни было встречу с нашим «гостем»…
Он снова нацедил в стакан коньяку и протянул мне. Я, видимо, слишком медленно возвращался в свое нормальное положение, и полковник решил поторопить это возвращение с помощью вина. Меня задело такое открытое признание моей слабости, и, приняв стакан, я поставил его на край стола.
— Возможно, мои сегодняшние наблюдения имеют какую-то ценность, — сказал я, собрав силы и заставив зубы не клацать. Признаюсь, сделать это было не так-то просто. Должно быть, я основательно продрог на проклятом сахалянском ветру. — Ценность хотя бы для характеристики «гостя»…
— Вы беседовали с ним?
— Нет… Но я узнал имя человека, с которым он провел вечер.
И я рассказал все, что видел и слышал. Полковник, как и следовало ожидать, не проявил никакого интереса к моему сообщению, будто я повторял уже много раз слышанное им и набившее оскомину. Раздражения и недовольства, правда, он не изобразил на своем всегда постном лице, но в его равнодушии было что-то тягостное. Я с трудом довел рассказ до того места, где «гость» произнес имя Люба. Это место должно было раскрыть человека, с которым провел вечер пассажир грузового катера. Произнеся слово, чрезвычайно важное по моему разумению, я смолк и посмотрел вопросительно на шефа. Мне хотелось увидеть довольную улыбку или поднятые в удивлении тонкие брови полковника. Ничего не увидел. Лицо словно не жило. Тогда, выдержав паузу, я продолжил рассказ и закончил его скамейкой на берегу Амура. Внутри у меня родилось то самое чувство досады на самого себя, которое я испытал уже три часа назад, дежуря у подъезда отеля.
Наконец Янагита очнулся.
— Люба — это Катька-Заложница, — произнес он сухо, будто давал официальную справку.