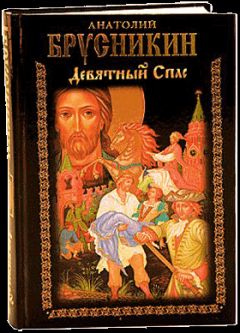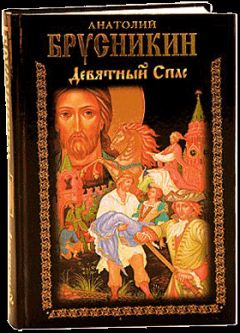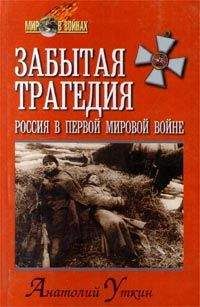Анатолий Брусникин - Девятный Спас
«Андрий сын Жилин, француз», – скрипел писец.
Третий был молодой, тощий, востроносенький, пёстрый, как птица попугай: шляпка с пером, ленты-позументы, бабьи чулочки. Пряжки на башмаках Сукову особенно понравились – серебряные, красота.
– А сей цесарский фрязин прислан из Вены, наставлять господ офицеров в шпажном искусстве. Имя ему, – Колобов заглянул в бумажку, – Ансельмо-Виченцо Амато-ди-Гарда.
Тут писец жалобно поглядел на Ипатия Парфёновича: поди-ка, запиши такое. Плюнул, накалякал просто: «шпажный цесарец».
– Повешенных и колесованных стрельцов им уже показывали, – деловито объяснял Моська. – Теперь пусть полюбуются, как у нас с преступников спрос берут. Что это он у тебя снулый такой?
– Сейчас разбудим…
Подал Ипатий знак палачу, тот ответчика водой из ушата окатил. Пока злодей губами шлёпал, в память приходил, Суков объяснил: это Митька Никитин, придворный чашник, заговору потатчик. Пока запирается, но сейчас всю правду скажет.
– Ну-ка, Фимка, ожги. Да гляди у меня: чтоб орать орал, но сызнова в изумление не впал.
Палач плюнул на ладонь, расстарался – красиво, с оттягом.
Но вопрошаемый не закричал, лишь натужно замычал и зубами скрипнул.
Нельзя русскому дворянину перед чужеземцами слабость являть! Митьша сейчас только об этом думал. От боли, перепоясавшей всю спину, в глазах красные круги завертелись. Но не опозорился Никитин, не взвыл.
– Ты что меня, пёс, перед людьми срамишь? – восшипел дьяк на палача. – Ты мне державу не позорь! Они подумают, мы дела не знаем! А ну, лупи!
Кат ударил снова, сильней, да с вывертом. Ему тоже стало зазорно.
Зубы у Митьши были стиснуты так – если ещё сильней, покрошатся. По спине лилась кровь, содранная кожа повисла длинным лоскутом. Но закричать не закричал.
– Бей!
С третьего удара не кричать легче сделалось. Поплыло всё, потемнело. И захотел бы орать – сил не осталось.
«Слава Богу, умираю», – подумал Дмитрий и, что было дальше, не видел, не слышал.
* * *А дальше было вот что.
Когда упрямый, за державу нерадетельный вор Митька обвис на верёвке, так и не завопив, сильно дьяк заругался на Фимку. Мол, самого его нужно кнутом ободрать за дармоядение и криворучие. У прежнего палача Срамнова этакой стыдобы не вышло бы, у Яшки все супостаты соловушками пели, с первого же удара. И еще всяко ругался.
– Ишь, чего захотел, – бурчал кат обиженно. – Яков Иваныча ему подавай. Срамнов-то ныне, хоть мала птаха, а высоко залетела. Пойдёт он к вам за семишник в день ломаться, а ещё за свои старания и спасибы не дождешься…
Толмачу перед иностранцами тоже было неудобно. А тут еще цесарский фрязин с неудобнопроизносимым именем насмехаться стал:
– Руськи паляч совсем плёхо. Надо из Вена хароши паляч звать, много талер плятить.
Умел, оказывается, шпажный учитель по-русски, сколько нисколько.
– Господин ди-Гарда к языкам большой талан имеет, – кисло молвил Колобов. – Пока из цесарской земли сюда ехал, говорить и понимать изрядно выучился.
«Ох, наябедничаешь ты на меня, крысиный хвост», – подумал про толмача Ипатий и, впав в чувственное расстройство, сказал, чтоб цесарец не кичился:
– Еще неизвестно, какие вы сами-то мастера. Много всяких понаехало, иные лишь вино трескать здоровы.
Ди-Гарда осклабил белые зубы, над которыми перышками торчали два рыжеватых усика.
– О, господин дияк, это, мы можем вам цайген… мостраре… Показать.
Он скинул куцый камзолишко, тряхнул манжетами и плавным, почти девичьим движением вынул из ножен шпагу. Остальные чужеземцы попятились, чтоб не мешать.
Размяв кисть (клинок описал в воздухе три свистящие восьмёрки), цесарец оглядывался вокруг, На чём бы явить ловкость. Наконец придумал.
Встал раскорякой: одна нога согнута, другая, прямая, отставлена назад.
Ка-ак притопнет, ка-ак стукнет каблуком! Подскочил вверх, на добрых полсажени, в воздухе вокруг оси провернулся – и не впереруб, а точнейшим, игольным ударом пронзил верёвку, подвешенную к шкиву. Бесчувственный преступник мешком повалился на пол.
Иностранцы зачем-то пошлепали ладошами, и громко – Ипатий с писцом от неожиданности шарахнулись.
– Это называется делать аплодисман, – снисходительно объяснил им Моська. – Сиречь знак одобрения изрядности в искусстве.
Суков проворчал:
– В рожу бы ему за такое искусство. Веревку, казённую вещь попортил.,,
Чёртов цесарец на это сказал что-то своим – похоже, обидное для Ипатия. Те заржали, и Моська, иуда, тоже улыбнулся.
Потом они промеж собой ещё немножко поговорили, и ди-Гарда сказал:
– Мои товарищи тоже желяют показывать свой искуесьтво. Но их искуесьтво такой, что в дом нельзя. Надо ходить улица.
Он сам себя перевёл, и француз с немцем снова загоготали.
Стало дьяку любопытно. Пока еще медлительный Фимка верёвку сменит, пока вопрошаемый очухается, это всё одно ждать. А тут будет, что жене рассказать.
– Ну, коли недолго…
Очень быстро-то не получилось.
Француз Сен-Жиль пошёл в казарму за ящиком с пистолями. Немец попросил принести из караульной десять фузей. Дотошно осмотрел стволы, замки, прицелы. Три велел заменить.
Ди-Гарда на своем ломаном, но понятном языке растолковал:
– Господин Анненхоф делать велики кунштюк: штрелять с тридцать шаг десять пуля пиф-паф в один минут, и кажди пуля попадать в один мест!
Цесарец понаблюдал, как его товарищ налаживает мишень – тряпичный лоскуток – к глухой бревенчатой стене, как отсчитывает шаги и неспешно заряжает ружья. А дальше смотреть не стал. Сказал, что эту штуку уже видел. Поклонился и отбыл.
Дьяк, толмач и писец, а с ними еще дюжина зрителей, остались поглазеть. В Преображенке, этом царстве страха и муки, развлечения случались нечасто.
Вернулся запыхавшийся Сен-Жиль, принялся любовно чистить и снаряжать орудия своего ремесла, два искусной работы пистоля. Знать, было и французу что показать.
Вот мушкетный мастер раскрыл карманные часы, положил на ящик, сам изготовился. Часы звякнули, и в тот же миг грянул выстрел. Посреди лоскута зачернела дырка. Анненхоф же проворно отложил фузею, взял вторую – бам! Взял третью – бам! Он был похож на ярославскую игрушку, которую дёргаешь за верёвочку, а деревянный мужичок топориком помахивает туда-сюда, туда-сюда.
Зрители оглохли от пальбы, глаза щипало от порохового дыма. Уже сумерки наступали, вокруг и без дыма не очень-то видно, но ловкому немцу это было нипочём: так и сажал пулю в пулю.
Преображенцам, глазеющим на столь предивное искусство, никому в голову не пришло оглянуться на расспросную избу.