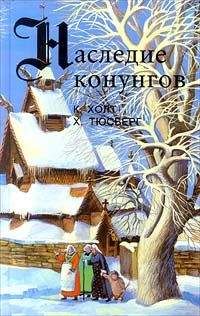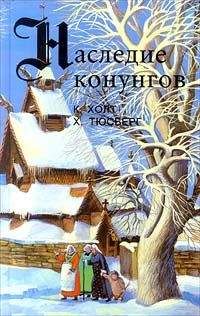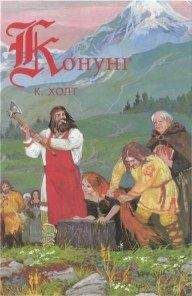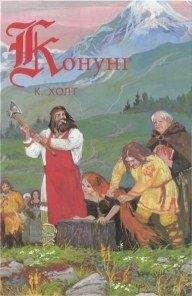Анатолий Коган - Войку, сын Тудора
— Я мог бы стать дервишем, — молвил Юнис. — Но ты видел, верно, этих нечистых, жестоких безумцев. Перейти в христианство; но разве меньше бед творят на свете поклонники девы-матери? Что же мне делать, если я не смогу быть больше воином, не в силах буду взять в руки оружие? Стать летописцем, ученым? Но тогда придет сильный и скажет: назови черное белым. Стать зодчим? Но однажды мне повелят: построй тюрьму. Или просто уйти от людей, с одною женщиной, построить дом на краю пустыни? И ждать, когда нас и там найдут и сотворят над нами зло?
— Иса-бек — мудрый воин, — напомнил Войку. — Скажи это все ему, отец разрешит твои сомнения.
В голове колонны прозвучала труба: вдалеке показались башни старой крепости. Войку снова был дома.
Хотелось лишь знать, надолго ли?
47
— А это кто? — возгласил Тудор Боур, заключая гостей одного за другим в могучие объятия, когда очередь дошла до родного сына. — Угадай!
Человек, к которому обращался капитан, был высок и тонок, но широк в плечах. Узкое, слегка горбоносое лицо с твердым, четко очерченным подбородком загорело почти дочерна, густые брови выгорели, чуть тронутые сединой волосы — коротко острижены. Незнакомец был в кунтуше, отороченном простым мехом, в выцветших широких шароварах из крепкого льняного полотна — одежде, видавшей виды, но удобно скроенной и ладно сидящей на его стройной фигуре. Только ножны и рукоять сабли, тяжелой и широкой, блистали золотой отделкой.
— Дай-ка гляну… От то козак! — смуглый воин все пристальнее всматривался в молодого белгородца. — теперь вижу: очи! Ее синие очи!
Так состоялось знакомство Чербула с его дядей, родным братом матери.
После того, как двадцать один год тому назад замок братьев Сенарега близ устья Днепра был захвачен ватагой вольных людей из Четатя Албэ и с порогов великой реки, впадавшей в том месте в море, младший из братьев, совсем еще юный Мазо ди Сенарега, избрал долю свободных жителей Поднепровья и уплыл с ними на их острова. Перешедший в веру своих товарищей, под новым именем, смелый Максим Фрязин женился на красавице Оксане, обосновался на хуторе тестя — известного пасечника, знатока целебных степных трав. Жил, как все в том привольном крае, удивительной жизнью, о какой в родной Генуе и не мог мечтать. Рыбачил, охотился, разводил пчел, варил крепкие меды, научился искусству врачевания недугов и исцеления ран. С чумаками ходил в близкий Крым за солью. Но еще более — бился с татарами и ляхами, с лихими степными харцызами. Максим не жил с казаками, как их уже тогда называли на татарский манер, в их засеках. Но казаки, собираясь с хуторянами в набег на орду или на ляхов, нередко выбирали умного и храброго фрязина, хладнокровного и искусного в руководстве боем, походным атаманом, вверяли ему свои жизни и успех опасного предприятия; Мазо давно стал для них своим, как бывало у тех вольных людей с пришлыми беглецами и бродягами самых разных племен и наречий.
В этот раз тоже днепровские вольные воины, узнав о новой войне между Землей Молдавской и туретчиной, прислали на быстрых чайках по Днепру и по морю пять сотен отчаянных удальцов, приведенных атаманом вовремя, несмотря на многочисленные заставы, устроенные по приказу Гедик-Мехмеда крымчаками, чтобы не пропустить с той стороны подмоги. Ловко обманув осаждающих татарским платьем и речью, казаки пробрались через лиман к водяным воротам крепости, в канун самого яростного приступа осман, усилили на добрую четверть ряды защитников и бились вместе с ними, пока враги не убрались в Каффу, где стояли их черноморские галеры.
В этот день Максим Фрязин с казаками собрался домой, на Днепр. Но задержался зачем-то, и — к счастью. Мазо ди Сенарега встретился с племянником, сыном любимой сестры, вышедшей замуж за славного белгородского воина и умершей несколько лет назад. Мазо, конечно, мог давно навестить сестру и зятя; он обменивался с ними, хоть редко, письмами, знал о рождении Войку, о том, что мальчик вырос добрым воином, сражался в великой зимней битве, со славой бился в Крыму. Приезжать в Монте-Кастро, однако, Мазо просто боялся. Храбрый Мазо, следует признать, был изрядно суеверен; он опасался возможной встречи со старшим братом и главой семейства, мессером Пьетро, волей которого пренебрег, отправившись на Днепр. Максим Фрязин, походный атаман, боялся, что Пьетро при встрече, придя в ярость, проклянет его. Встреча, надо сказать, все-таки состоялась; но старый Пьетро спокойно проследовал мимо, то ли не узнав сильно изменившегося брата, то ли не пожелав его узнать. Теперь, обнимая Войку, храбрый Максим был с лихвою вознагражден за пережитые им неприятные минуты.
— А теперь, господа, за стол! — пригласил Тудор. — Ахмет, не мешкай, проси!
Ахмет в тот день плохо справлялся со своими обязанностями. Татарин не мог оторвать глаз от своего воспитанника, еще вчера — несмышленого сорванца, доставившего ему столько хлопот. И Войку время от времени отвечал благодарным взглядом своему бритоголовому, страшному ликом дядьке.
Пили-ели рыцари и витязи, по молдавскому обычаю, на воздухе, во дворе капитанского дома. На пиру были все гости, приехавшие с капитаном Молодцом, товарищи Фрязина — десятники и сотники, знаменитые воины казачьего отряда. Славный пир в честь возвращения Войку почтили присутствием пыркэлабы-бояре Германн и Дума, провост и нотариус сильно поредевшей генуэзской общины, виднейшие воины и граждане города и его четырех стягов. Длинный стол, также по обычаю, ломился от яств и пития.
Падал вечер; здравицы были сказаны; гости насытились мясным, рыбным и сладким; не сумевшие соблюсти меру дремали, уронив буйные головы на стол, или возвещали из-под оного о своем блаженстве громким храпом. Тудор Боур потчевал остававшихся в чувствах, занимал беседой. А Войку с соратниками и друзьями затеял недальнюю прогулку — к цитадели, возвышавшейся в полусотне шагов от дома. Воины взошли на башню, обращенную к лиману, вздохнули вольный, трезвящий ветер близкого моря, ничем не скованный дух простора, уходившего, казалось, во все четыре стороны за пределы земли, простиравшегося до звезд. Вселенная, без края и конца, начиналась, чудилось, на этой высокой башне, и каждого, словно в дивном сне, охватывало безудержное желание отдаться могучей стихии, слиться с нею в полете.
— Никак не могу, панове, наглядеться на славный Белый город, — вздохнул Бучацкий. — Каждый раз, приезжая, не могу нарадоваться, что я снова здесь, будто на вершину мира взошел. Дивный город у вас, пане пыркэлаб, нет второго такого в мире; уж верьте мне, ваша милость, побывавшему в стольких странах!