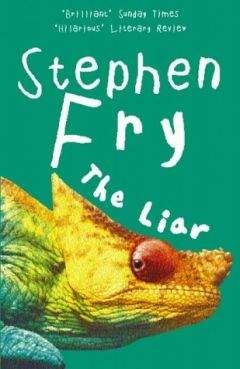Крис Хамфрис - Узы крови
Фуггер протянул дрожащую руку к медальону, который при ее приближении отодвинулся и повис, вращаясь, почти возле самых пальцев.
— Не сейчас. Сначала ты должен сделать то, что я тебе скажу. Хочешь узнать, что это будет?
Это могло оказаться чем угодно. И Фуггер сознавал, что совершит что угодно. Любое преступление, которое ему велят содеять, любой грех — лишь бы медальон оказался у него в руках. Чтобы исполнилось обещание, содержавшееся в этих словах. Чтобы освободить. Чтобы спасти.
— Да, — выговорил Фуггер. — Да, Джанни, говори, что я должен сделать.
И Джанни сказал ему… Солнце померкло, поглощенное черной пропастью ужаса, глубокой и мрачной пещерой, подобной той, в которой он жил — если подобное существование можно назвать жизнью — в куче отбросов, под клеткой виселицы, на перекрестье дорог у Луары. Из этой пропасти его освободил Жан Ромбо, человек, которому Фуггер помогал исполнить его клятву — и которого он потом предал. И который тем не менее поднял его снова, вернул ему свою дружбу, дал еще один шанс. Жан Ромбо подарил Фуггеру новую радость дневного света, радость, которая оставалась с ним все годы, прошедшие с той поры. Фуггер был обязан этому человеку всем. И теперь сын этого человека требовал от немца второго предательства, еще худшего, нежели то первое, потому что ныне Фуггер обязан погубить дело жизни своего друга в тот самый момент, когда эта жизнь близится к концу. И слезы, хлынувшие из глаз Фуггера, перед которыми неумолимо вращалось изображение его жены, его самого и его дочери, были слезами горького знания. Мария была единственной радостью, которая у него оставалась, единственным напоминанием о женщине, которую он любил. Что рядом с этим дружба, верность и кости мертвой королевы?
Фуггер упал на пол. Тень легла на его глаза, словно громадная черная птица опустилась на дыру в крыше и заслонила солнце. И Фуггер, человек, некогда живший под виселицей, хрипло, по-вороньи, каркнул:
— Иисусе, спаси и помилуй!
И только один из присутствующих произнес в ответ:
— Аминь.
Сидевший на краю стола человек до этого молчал. Джанни Ромбо дернул цепочку, поймал медальон в ладонь и торжествующе поднял голову.
* * *Солнце заслонила вовсе не птица. Увидев у дома солдат, Эрик спрятался поблизости и наблюдал за тем, как Фуггера увели внутрь. Не зная, находится ли там его Мария, он залез на крышу с соседнего здания. Двигаясь бесшумно, словно тигр, молодой скандинав пробрался по расколотым черепицам и открывшимся балкам к самой большой дыре и там забился за выступ каминного дымохода. Ему не было слышно, что происходит внутри, все заглушил стон павшего города: крики, барабаны, топот, колокола. Но Эрик отлично видел, как Фуггер стоит на коленях перед человеком в капюшоне, заметил, как что-то блеснуло между ними, уловил волну отчаяния, исходившего от человека, которого он знал всю свою жизнь. А потом Фуггер упал, и Эрик придвинулся к дыре. Человек, который до этого был для наблюдателя только макушкой капюшона, поднял голову. Эрик замер — и потому, что любое движение могло его выдать, и потому, что узнал еще одно лицо, знакомое ему всю его жизнь. Мальчишка, с которым он рос и которого постепенно стал ненавидеть, стоял прямо внизу. Джанни больше не был мальчишкой. И Эрику не требовалось видеть отчаявшегося Фуггера, чтобы понять: раз здесь замешан Джанни Ромбо, значит, только что началось нечто жуткое.
Глава 5. ЦАРСТВЕННАЯ УЗНИЦА
Елизавета никогда еще не бывала в этой части дворца: ни в ту пору, когда навещала отца в беззаботные дни своего детства, ни сейчас, когда ее передвижение ограничили западными апартаментами и маленьким, окруженным стеной садом у реки. Но даже если бы она и обладала большей свободой, то не пошла бы сюда, потому что для этого пришлось бы идти через кухню, где поварята тотчас прекращали работу, чтобы указывать на нее пальцами и переговариваться, а потом еще через заброшенный двор конюшни, где единственный факел сопровождающего не в силах рассеять ночной мрак. Затем следовало спуститься по узкой лестнице и войти через низкую дверь. Обшитая дубовыми панелями комната была достаточно уютной, хоть и не богато обставленной. Дверь, закрывшаяся за Елизаветой, оказалась тщательно пригнанной по всем швам и не имела ни ручки, ни замочной скважины. Однако она слышала, как в замке был повернут ключ: это сделал молчаливый мужчина в капюшоне, который привел ее сюда. В центре комнаты стоял стол, за ним — два кресла с высокими спинками и один табурет. В помещении, лишенном окон, единственный свет давала лампа, оставлявшая углы темными. Подле лампы лежали чернильница, три пера, перочинный нож и пачка чистого пергамента.
Пусть Елизавета никогда раньше и не бывала в этой комнате, но она узнала ее с первого взгляда. Комнаты для допроса всегда были одинаковыми. Принцесса повидала их достаточно, чтобы это знать.
Однако здесь имелось одно отличие. Елизавета обнаружила его при первом же повороте головы: это отличие висело на задней стене, позади кресел для допрашивающих. Зеркало — круглое, чуть вогнутое. О его старости свидетельствовала рама с хлопьями позолоты. А вот стекло оказалось превосходным: даже при этом плохом освещении оно показало принцессу совершенно ясно. Зеркало явно предназначалось не для этой комнаты, а для какого-то более богатого помещения, и Елизавета стала гадать, как оно совершило свое путешествие сюда, чтобы представить царственной узнице ее собственные недостатки. А еще она гадала — как всегда, когда видела зеркало, — какие лица оно отразило и потеряло. Одни лица, которые Елизавета узнала бы мгновенно, и другие, которые помнила только смутно.
Ее отец наверняка смотрелся в него: Генрих был не из тех людей, кто проходит мимо зеркала. И сейчас она видела его отражение в своей сильной челюсти, в высоком лбе, обрамленном золотисто-рыжими волосами. Мать была для нее поблекшим воспоминанием, а немногочисленные сохранившиеся портреты, как говорили, не отдавали должного Анне Болейн. Однако то немногое, что знала и помнила Елизавета, она разглядела сейчас: в острых скулах, безупречно прямом носе, но более всего — в глубоких пещерах глаз. Глаза опальной принцессы не были бездонными озерами, которыми, по рассказам, манила и дразнила окружающих ее мать, но тем не менее они считались весьма красивыми. И еще — изящные руки. Наследство от женщины, которую Елизавета никогда не знала по-настоящему. Принцесса подняла руку, прижала к щеке ладонь, потом тыльную сторону кисти. Вспомнив, в чем отличие ее собственной руки от материнской, она поспешно опустила ее. Эта рука все равно казалась Елизавете странной, даже без лишнего пальца, которым ее дразнили так называемые «друзья»: пальцы костлявые, а вовсе не тонкие, кожа — такая же желтая, как на лице. И руки, и лицо были изможденными после долгих лет бдительности, подозрений… ожидания в комнатах, подобных этой!