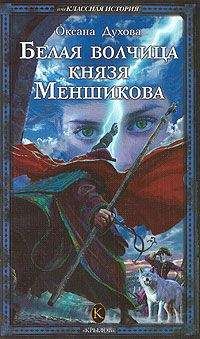Хозяйка тайги - Духова Оксана
– Да, ваше благородие? – мрачный смотритель сложился почти вдвое.
– Можно на время запереть женщин?
– А чегой-то нельзя, ваше благородие? Еще как можно-с! Это мы запросто!
– Тогда поторапливайся! Запри их.
Алексей резво бросился запирать все двери станционные. Пермяки взялись за уздцы и завели сани в сарай. Холодное зимнее солнце равнодушно следило за творящимся на земле.
Лобанов поджал губы. «Скоро Рождество Христово, – подумал он. – А потом как доберемся до Урала, они к оковам уже подпривыкнут».
Ему было по-собачьи тоскливо, хоть в голос вой.
Из флигеля, где содержались осужденные, послышались громкие крики раздаваемых команд. Конвой кричал:
– Быстрее! А ну, быстрее! Пошевеливайтесь, сучий потрох!
Появились каторжане. У Лобанова на мгновение обмерло от боли за них сердце, когда он увидел их, в заношенных робах, с попонами на плечах, невыспавшихся, грубо вырванных из сострадательного забытья такой короткой ночи, гонимых, словно стадо на бойню.
Пермяки в сарае испуганно жались к саням. Пока что железа были прикрыты дерюгой, но генерал Муравьев внезапно почуял недоброе, крикнул отчаянно:
– Братцы, они еще какую-то пакость над нами удумали! Вы только гляньте на те рожи разбойные!
– Мы всего лишь честные ремесленники, свое дело знаем, – обиженно отозвался один из пермяков. – Наша ли вина, что вас в Сибирь погнали? Нам за работу платят, человеку деньги нужны, чтобы жить.
Заключенных согнали в сарай, ворота закрыли. Полковник Лобанов поставил у сарая группу вооруженных до зубов солдат.
– У меня для вас сообщение, господа! – крикнул Лобанов, устраиваясь на облучке первых саней. Нестерпимо болела нога. – Мы почти добрались до Урала. За ним начнется Сибирь.
– Урок географии тоже входит в наше наказание? – хмыкнул кто-то из декабристов.
Полковник Лобанов вздохнул. Он глянул на Трубецкого и Муравьева, стоявших в первом ряду, и внезапно почувствовал, как сжимается горло от болезненного спазма.
Полковник махнул головой пермским кузнецам, и те сдернули дерюгу со своего товара. В слабом свете блеснули новехонькие кандалы.
На мгновение в сарае воцарилась мертвая тишина. У заключенных перехватило дыхание, солдаты покрепче сжали приклады ружей.
Вот оно, сейчас раздадутся крики ужаса. Сейчас полетят в небо к Богу проклятия, стоны, плач людской.
Они даже не шелохнулись. Молча смотрели на груду цепей. А потом в полнейшей тишине Муравьев произнес очень тихо и спокойно:
– Я никогда не надену на себя эти украшения.
Полковник Лобанов глянул на Муравьева и с досады стукнул кулаком по деревянному своему протезу.
– Я тоже вот ношу это украшение во славу России…
– Вы потеряли ногу в бою!
– А вы заработали железа в революции.
– Но я – офицер! – сорвавшись, закричал Муравьев.
– Вы были офицером, граф. А теперь вы ссыльнокаторжанин, – Лобанову стало нестерпимо жарко. Он должен быть суров с ними! – Выходите по одному! Штанину задрать! Сесть на козлы.
Никто даже не шелохнулся.
– Люди, – устало произнес Лобанов. – Не вынуждайте меня поступать с вами бесчестно. Так должно быть. Идите же! Вы знаете, что такое приказ. Приказ не оспоришь ни сердцем, ни разумом. Приказы должно исполнять. Я прошу вас, я прошу вас всех…
– Он прав, – князь Трубецкой первым шагнул из толпы. – Нет смысла сопротивляться. Мы больше не вольны в себе. Мы должны повиноваться. Будем же благоразумны, господа.
Он сел на козлы, закатал брючину и закрыл глаза. Кузнец схватил цепь. Замки щелкнули. Трубецкой все сидел. Рот его чуть приоткрылся, как будто князю не хватало воздуха, ему казалось, что по ногам его бегут ледяные мураши, полностью парализуя все тело.
– Следующий, пожалте, – равнодушно произнес кузнец-пермяк. Он заковал в железа не одну сотню осужденных. Он пережил и ругань, и проклятия, и угрозы, слезы и молитвы… Для него эта работа была такой же обыденной, как и любая другая. То ли лошадь подковать, то ли человека упаковать в кандалы – да какая, в сущности, разница?
Трубецкой медленно поднялся. Запинаясь сделал пару шагов. Тяжелая цепь билась о землю. Князь с трудом поднимал ноги и вдруг покачнулся. Борис Тугай рванулся вперед, подхватил Трубецкого и отвел в сторону.
– Сколько ж они весят-то, – жалко улыбаясь, пробормотал Трубецкой. – Это ж на весь мир позор и отчаяние, к ногам привешенное.
Он оглянулся на Муравьева.
– Давайте, теперь вы, граф…
И Муравьев не стал сопротивляться. В своем новеньком фраке он подошел к козлам и осторожно присел на них. Кузнец равнодушно глянул на генерала.
– Штанину-то задери, барин, – сказал он.
Муравьев упрямо покачал головой.
– Давай на порты. Украшения, тем паче, такие, на одежде носить надобно. Кроме того, твои железа куда более проносятся, чем портки.
Раздался звон, словно по жизни их погребальный, и Муравьева охватило то же самое чувство, что и Трубецкого. Он поднялся с козел, подхватил цепи обеими руками, прижал к груди и, мелко семеня ногами, вернулся к товарищам.
Кто-то забарабанил в ворота сарая. Солдат чуть приоткрыл створки, и в щель пробрался станционный смотритель.
– Помогите! – закричал он. – Мне помощь надобна, ваше благородие! Женщины… Да какие ж то бабы, чертовки сущие! Я их, бесиц, запер, как вы приказали, и теперь они дом громят. В окнах стекла уж повыбили, и за мной с поленом по залу гонялись. Силу б применить надо. Идемте же, господин полковник, а то даже казачки ваши это бабье окаянное боятся! Кабы чего не вышло!
Лобанов оглянулся на декабристов. На четырех из них уже были надеты железа, на козлах как раз устраивался конногвардеец, лейтенант Тугай.
– К чему все это? – вымученно вздохнул Лобанов. – Вот к чему мне еще и бабий мятеж? Что с того изменится-то? Только силы потратят, а они им ой как надобны.
И вышел во двор вслед за станционным смотрителем.
Где-то через час все было кончено. Громкий, жутковатый перезвон зазвучал в сарае: каждое движение ноги – и оковы начинали свой поминальный перепев.
Дамы на постоялом дворе худо-бедно успокоились не без твердого вмешательства Лобанова. Они собрались у трех разбитых окошек и замерли в ожидании появления своих супругов, высоко подняв меховые воротнички шубок. Но пока что во дворе сновали одни только казаки.
Наконец, во двор согнали возки. На другом конце почтовой станции сгрудились сани жен мятежников, закутанные в теплые тулупы возницы тоже уже были готовы к спешному отъезду. Стоял ясный морозный денек; снег скрипел под ногами, словно битое стекло.
Фельдфебель Поздняков уже битый час со страшной бранью носился по двору в поисках пропавшего бог весть где солдата Ефима. Но никто его не видел. Стоял себе подлец на часах, а назад не вернулся. Как сгинул. Впрочем, Ефим в охотку прикладывался к горячительным напиткам, так что все как один были уверены в том, что негодяй спит себе где-нибудь мертвецким сном, зарывшись в прошлогоднюю солому.
– Или же в бега подался! – прорычал Поздняков. – Дурачина, ведь поймают да вздернут без разговоров, как пить дать, вздернут!
Створки ворот сарайных медленно распахнулись. Казаки схватились за сабли.
– Выходят! – раздался восклик из женской толпы. – Наши мужья выходят!
Сначала, впрочем, показался полковник Лобанов. Прохромал по забитой санями площади. Денщик набросил на него теплую, подбитую мехом шинель и подал треуголку. Потом из сарая вышли несколько солдат и встали слева и справа от ворот.
– Что все это значит? – шепотом спросила Ниночка у княгини Трубецкой. Ее худенькое личико раскраснелось от волнения и напряжения: ведь каких-то полчаса назад она вместе с двумя женщинами пыталась выбить двери постоялого двора тяжелым обеденным столом.
– Парад в преисподней! – Трубецкая прижалась лбом к заледенелой оконной раме. – А ведь я это предчувствовала, Нина Павловна. Случайно я видела однажды, как этапируют заключенных в Сибирь. Я проезжала тогда мимо. Они шли по четверо в одной связке, бесконечный такой обоз. А на ногах у них… – У княгини вдруг сорвался голос, она махнула рукой в окно и заплакала. – Смотрите сами!