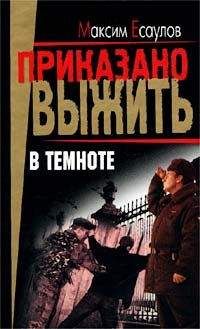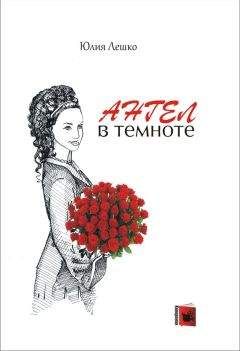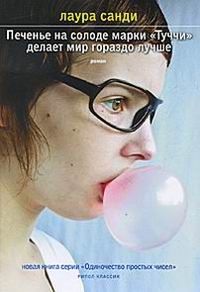Сумрачная дама - Морелли Лаура
Из коридора, ведущего в помещения дворцовой кухни, Чечилия заметила незаконнорожденную дочку его светлости. «Это она, кто еще», – подумала Чечилия. Маленькая Бьянка. Девочке было лет семь-восемь, ее круглые милые щечки обрамляли черные локоны. Она сидела на кухне за большим грубым столом и руками раскатывала тесто. Чечилия никогда раньше не видела девочку, только слышала о ней. Она полагала, что малышка проводит дни напролет в дворцовой детской со своими воспитателями. Чечилия оперлась спиной о стену в коридоре и несколько долгих мгновений наблюдала за девочкой.
По коридору разносился запах тушеных телячьих ножек. У Чечилии потекли слюнки. До следующей трапезы оставалось несколько часов, а она теперь постоянно хотела есть. Растущая внутри нее жизнь требовала пищи. Она подумала, что можно попросить повара дать ей что-нибудь небольшое перекусить или самой стащить что-нибудь из дворцовых кладовых.
Она думала, что необходимо найти способ сообщить Людовико, что она носит его дитя, пока он сам этого не понял. Но теперь, когда она узнала, что его светлость давно помолвлен с Беатриче д’Эсте Феррарской, Чечилия даже не представляла, что вообще может ему сказать. Последние несколько дней она притворялась больной и оставалась в спальне, надеясь, что Людовико оставит ее в покое на достаточно долгое время, чтобы она смогла найти правильные слова, сформулировать правильные вопросы. Что она может сделать или сказать такого, что заставило бы его отказаться от договоренности с герцогом Феррарским и вместо этого взять в жены Чечилию? И что с ней будет, когда станет известно о ее беременности? Она боялась, что Людовико может немедленно выбросить ее вон, вместе со скопившимся на кухне мусором, или даже что ей могут перерезать горло посреди ночи. Она никому не рассказала о своем положении. Может ли Людовико оставить ее ребенка здесь, под своей крышей, но саму Чечилию сплавить неизвестно куда? Кстати, где мать этой девочки?
Но было еще кое-что, что пугало Чечилию даже больше, чем изгнание из дворца, больше, чем возможность лишиться ребенка – она боялась вообще не пережить родов. На ее глазах две ее тетки отправились в мир иной, как только их новорожденные дети пришли в этот. Она видела их кровь, слышала последний крик матери вместе с первым криком ребенка. Каждый день случалось такое, женщины жертвовали своей собственной жизнью, отдавая ее другим. Как бы ей ни хотелось излить кому-то душу, она едва могла сама взглянуть правде в глаза. А правда заключалась в том, что она была в ужасе.
Наконец голод взял верх, и Чечилия зашла на кухню. Девочка почувствовала ее присутствие и подняла глаза от своей липкой работы. Чечилия оглядела кухню – темное, похожее на пещеру помещение, загроможденное металлическими кастрюлями, посудой, тряпками и старой деревянной мебелью. Здесь никого больше не было. Девочка, мигая, молча смотрела на Чечилию светло-голубыми глазами, обрамленными черными ресницами.
– Ты дочь его светлости.
Девочка кивнула и вернулась к работе.
Чечилия подошла к столу и отодвинула один стул.
– Я Чечилия.
– Я знаю, – сказала девочка.
– Что ты стряпаешь?
– Хлеб с изюмом и апельсином. – На девочке был фартук, такой большой, что им можно было бы обернуть трех таких, как она. Вероятно, его ей любя отдал кто-то из поваров.
– Я бы хотела попробовать. Выглядит вкусно, – улыбнулась Чечилия.
– Он вкусный. Будет. Когда повар испечет его для меня.
– Можно попробовать?
Бьянка ничего не сказала, но пододвинула комок теста через стол к Чечилии.
Наступило молчание. Чечилия сжала пальцами теплое тесто, набираясь духа задать единственный вопрос, ответ на который она хотела знать больше всего. В помещении больше никого не было, и Чечилия подумала, что надо пользоваться случаем, который потом может больше не подвернуться.
– Твоя мама… – Чечилия запнулась. Девочка подняла светло-голубые глаза и посмотрела на нее. – Где она?
26
Доминик сидел на камне у входа в палатку и пытался нарисовать мать своих малышей. Сначала он долго смотрел в гаснущем вечернем свете на чистый лист бумаги. Хорошая бумага. Настоящая. Листочек в линеечку – Джози вырвала его из своего стенографического блокнотика и вручила Доминику, прежде чем уехать из Ахена, чтобы вместе с еще какими-то журналистами направиться на фронт следом за новым отрядом.
Несколько карандашных штрихов, но образ не рождался. Доминик не хотел думать худшего: что он уже забыл, как выглядит Салли. Как такое возможно? Но ее лицо в его памяти расплывалось, постоянно ускользая от внимания. Сердце ныло.
Доминик постучал карандашом по коленке и попытался придумать, что еще нарисовать, чтобы разогреться перед портретом Салли, но в голове была лишь свалка образов. Кончик вздернутого носика крошки Чечилии. Взрывающийся песок «Омаха-Бич». Холодная, всепоглощающая тьма угольной шахты в Пенсильвании. Пол Блэкли, лежащий ничком под дверями собора в Ахене с пропитавшейся красным грудью. Доминик положил бумагу и карандаш на камень, потом встал, сложил руки в замок за голову и принялся ходить туда-сюда по грязной земле.
У него за спиной воздух наполнился обрывками немецкой речи. В этой палатке, как и в сотнях других таких же, размещались немецкие беженцы, изо всех сил пытающиеся выжить среди этого кошмара. Вот уже три месяца отряд Доминика ездит по лагерям и полуразрушенным музеям этих мест в поисках хоть кого-то из оставшихся в живых специалистов в области искусства, которые могли бы помочь им найти и защитить бесценные творения. Но многие из этих художников и сотрудников музеев хранили молчание – возможно, боялись, что за откровенность придется дорого заплатить, – а других и вовсе давно след простыл: они сбежали на все еще вражескую территорию к востоку от Рейна.
Викарий Стефани ездил вместе с отрядом, всеми силами стараясь сподвигнуть таких же, как он, немецких беженцев к помощи в поиске столь дорогих ему произведений искусства. Но от всего этого было мало толку. Они ничего не нашли, а безэмоциональные лица беженцев говорили Доминику только о том, что эти люди уже отчаялись найти ценность даже в самой жизни. Совсем не похоже на обещанные пропагандой радостные толпы счастливых граждан, встречающих своих американских освободителей; немцы были по-прежнему опасливы. Доминик понимал, что освобождение будет намного сложнее, чем ему казалось.
– Бонелли! Поехали! – Доминик увидел, что несколько человек из его отряда садятся в машину возле въезда в лагерь. Он увидел, как Хэнкок помогает залезть в машину старику, немецкому музейному работнику. Они нашли его едва живым в палатке с такими тонкими стенками, что через них пробивался солнечный свет, но жизни в нем хватило на то, чтобы представиться искусствоведом на пенсии и выразить желание помочь. Для Хэнкока этого было достаточно. По крайней мере, эта их вылазка в лагерь оказалась результативнее предыдущей.
Доминик забросил на плечо сумку и направился к машине. Свежий листик бумаги и карандаш он так и оставил лежать на камне.
27
Эдит разглядывала Каетана Мюльмана, пока тот урывками дремал на обитом плюшем сидении летящего вперед поезда.
Раскусить его было трудно даже в уязвимости сна. Эдит смотрела, как по широкому лицу Кая пробегают полоски света, очерчивая грубую щетину – по ней давно плакала бритва. С такими широкими плечами, крупным лбом и квадратной челюстью Эдит представляла его на боксерском ринге. Встреть она его на улице – никогда не опознала бы в нем историка искусства. Но Мюльман так многого добился в этой профессии, что ему поручили лично перевозить бесценные произведения искусства. И конечно же он поддерживал Партию – иначе его бы не назначили на должность оберфюрера СС.