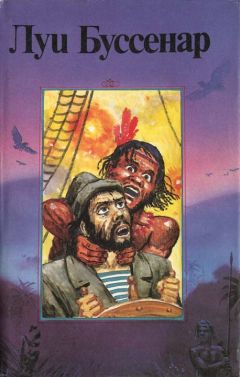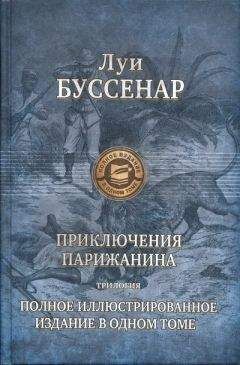Луи Буссенар - Кругосветное путешествие юного парижанина
Эта процедура заняла два часа.
— Как вам все это нравится, месье Андре? — не пытаясь скрыть своего отвращения, изумлялся Фрике. — Честно говоря, подходящее блюдо для тех дураков, которые два дня только им и занимаются; по-моему, игра не стоит свеч.
— Тут, милый юноша, вы ошибаетесь, меня убедили: это очень вкусно.
— Что?.. Ладони… Лапы этой…
— Да-да, гориллы, — невозмутимо отвечал молодой человек.
— Бр-р!.. С фиолетовыми язычками, с растертыми мозгами… с муравьиными яйцами… О! Нет, нет!
— В Париже, во время осады[136], я ел и похуже. Не буду вдаваться в подробности, но, начиная с бродячих котов и крыс из сточных канав, через наш стол прошли всяческие животные.
— Ай-ай-ай!.. Я знаком с ребятами, которые стояли у вокзала Гар-о-Беф под командованием капитана Люка и лейтенанта Дезэссара. Но все равно, здешний корм паршивый.
— Ладно, матросик, оставайся при своем мнении. Но я не только ел крыс, зажаренных на собственном сале, но и пил конский бульон из каски кирасира, — продолжал, смеясь, молодой человек, его забавляло, что отвращение к дикарской еде, понятное у прочих, возникло именно у маленького парижанина. — А теперь пошли, кузнец наших несчастий! Вшивый господин, его величество Зелюко, приглашает на пир, достойный римских императоров, советую делать вид, будто у тебя слюнки текут!..
— Пир… достойный римских императоров… О-ля-ля! Ну, да ладно, я же смеюсь не над римскими императорами, а над здешними дикарями. Тоже мне, римляне!
— Месье Фрике, уважайте традиции и внутреннее устройство стран, оказывающих нам гостеприимство! Оставьте ваши республиканские убеждения при себе и, раз вы гость, чтите монархию!
— Довольно, месье, каждый остается при своих убеждениях и предпочтениях!
— К тому же вы сказали, что римские императоры тоже вкушали подобную пищу… Знаменитый Вителлий[137] приобретал в Ливии[138] за большие деньги мозги и язычки фламинго, которые, с незначительными вариациями, приготовлялись примерно так же, как здесь, и считались изысканным блюдом на пирах, и приглашенные лишь пальчики облизывали. Но это еще не все. Этот омерзительный гурман съедал целое блюдо из двух-трех тысяч соловьиных язычков, посыпанных алмазным порошком.
— Фу!.. Не нравятся мне императоры. Это выше моего разумения. Совсем недавно такое было во Франции и есть кое-где в Европе.
— Месье Фрике, вы говорите о политике, словно какая-нибудь не знающая удержу газета. Кончайте. Бросим эту скользкую тему.
— Тем более, судя по музыке, готовится необычное зрелище.
— Вот именно! Дзим… бум… бум! Нам что-то покажут…
Пока шли приготовления к пиру, Зелюко, обладавший всеми качествами гостеприимного хозяина, устроил представление, столь же невероятное, сколь и странное.
Итак, европейцы очутились на… «драматическом спектакле»! Да, мы не ошиблись: на драматическом спектакле! Театр в Экваториальной Африке!
— Очень мило. Я готов даже смириться с неограниченностью власти месье Зелюко, — заинтересованный приготовлением к спектаклю, проговорил Фрике.
— Готов! — насмешкой произнес доктор. — Недолго же ты верен своим убеждениям! Поглядите-ка на этого реакционера!
— Ну нет! У меня в голове не реакционные мысли, а желание немножечко развлечься. Сегодня можно капельку погулять, один-то раз не в счет.
— Смотри, какой шустрый! Ладно, ты все равно парень что надо, матрос.
А! Какая разница, реакционер или революционер, но Фрике говорил, что думал. Посмотреть представление ему до смерти хотелось, и тут уличный мальчишка брал верх над исследователем и политиком.
— Неплохо работают ребята, — добавил он с видом знатока.
Наш друг решительно превращался в оптимиста, на что ему не замедлил указать Андре.
— Послушай-ка, Фрике, этот, как ты его важно именуешь, «театр», всего-навсего хижина, где, возможно, приносятся отвратительные человеческие жертвы или совершаются какие-нибудь мерзкие обряды. И стены выложены костями животных, лежат горы скелетов…
— Да, антураж[139], скажу я вам, не слишком веселенький; однако, видите, у них есть занавес, самый настоящий занавес! Не хватает лишь афиш. Зато есть буфет со всякими калебасами с пивом и простоквашей. И все бесплатно. Не хватает яблочных пирожных. Прокат биноклей!.. Антракт!.. Вечерние газеты… Рюмочку не желаете?
— Ладно уж! Пошли!
Троих европейцев провели на почетные места рядом с оркестром, на первый взгляд довольно примитивным, но весьма необычным.
В театре не было ни машинерии, ни декораций, ни осветительных приборов по той простой причине, что играли только днем. Ложи и ярусы тоже отсутствовали, оставался партер перед сценой.
Отталкивающая подробность, на которую наши друзья предпочли не обращать особого внимания: места для почетных гостей представляли собой человеческие черепа, насаженные на одноногую табуреточку из черного дерева, напоминавшую стульчик пианиста.
Владельцы оперных абонементов в Париже сидят в креслах, театралы из племени галамундо восседали на черепах… Помещение было невелико, но никто не жаловался. Каждый был полон гордости. Уж не по наследству ли переходили эти места?
Зловещие сиденья занимали не более дюжины зрителей. Прочие располагались на головах быков, держась руками за рога, — места для рядовых зрителей.
Ибрагим, куривший всегдашнюю жасминовую трубку, объяснил Андре, что за спектакль предстояло посмотреть.
У экваториальных племен нет никаких артистов. Выступать на сцене было исключительной привилегией монарха и знатных лиц. Почему бы и нет? Ведь любил Нерон играть в трагедиях, а Король-Солнце[140] не гнушался исполнением балетных партий в Версале.
Оперетта, комедия или комическая опера туземцам неизвестны, зато им привычна мелодрама[141]. Артисты изображают, стремясь к предельному правдоподобию, эпизоды войны, или охоты, или придворной жизни суверена;[142] именно последние и становятся основными сюжетами представлений.
Женщинам участие в театральных постановках строжайшим образом запрещалось — как в качестве актрис, так и в качестве зрительниц. Полные любопытства, они лишь толпились у входа в «театр».
…Занавес не поднялся, а раскрылся.
Зазвучала музыка. Боже, ну и умора! Виртуоз угольно-черного цвета, присев на корточки подле ящичка, оказавшегося, к величайшему удивлению европейцев, шарманкой[143], стал крутить ручку, а инструмент начал с остервенением выплевывать европейские мелодии. Потрясенный Фрике узнал арию «Мои ягнятки», естественно, искаженную, фальшивую, изуродованную разлаженным инструментом, — предметом гордости монарха, полученным от Ибрагима десять лет назад в обмен на партию рабов.