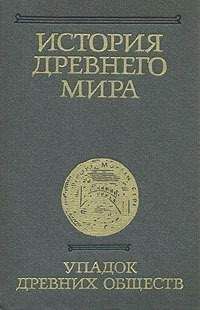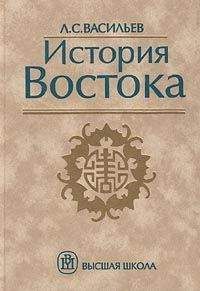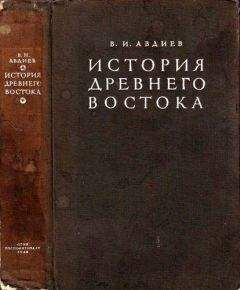Джон Биггинс - Под стягом Габсбургской империи
Я попрощался с профессором, князем фон унд цу Регницем, в весьма задумчивом настроении и взял фиакр обратно в Бельведер. Почти наступила полночь, но мне еще требовалось собрать вещи, потому что завтра я должен был уезжать вместе с наследником и его семьей на Адриатический курорт Аббация. Мне также приказали захватить летный комбинезон.
Глава пятая
Основной целью поездки наследника на Адриатику был отдых - семейный зимний отпуск на курорте Аббация. Тем не менее, государственные дела все же немного смешивались с отдыхом, поскольку в последний день января эрцгерцогу с женой предстояло посетить верфи Ганц-Данубиус в Порто-Ре, на другом берегу залива Кварнер, чтобы спустить на воду два новых эсминца императорских и королевских кригсмарине.
Адмиралтейская яхта «Далмат» приплыла за ними в Аббацию. Это может показаться странным, если посмотреть на карту: и Аббация, и Порто-Ре расположены в глубине залива, и между ними около двадцати километров по дороге - всего полчаса на легковом автомобиле. Но дорога проходила через город Фиуме.
А Фиуме - побережье королевства Венгрия. Заметьте, я сказал «побережье», а не «на побережье», потому что набережная Фиуме - четыре километра от Кантриды на западе до Сушака на востоке - и составляла всю приморскую линию королевства Венгрия, отданную Будапешту по Австро-Венгерскому соглашению 1867 года, при этом подавляющее большинство жителей города составляли итальянцы и хорваты.
Ненависть наследника к мадьярам была столь сильна, что он никогда не упускал даже самого незначительного случая их принизить, а тут представлялась отличная возможность выказать пренебрежение: приплыть морем из Аббации в Порто-Ре и показать кукиш венгерскому губернатору, сидящему в палаццо на склоне холма, нависающего над заливом.
В мою задачу не входило задеть гордость известных своей обидчивостью мадьяр. Мне лишь предстояло использовать это морское путешествие наследника и его приближенных для демонстрационного полёта последней модели летающей лодки императорского и королевского флота.
На этот раз это оказался родной австрийский продукт, «Этрих-Микль AII»: крылья и хвост маленького биплана слились с корпусом лодки, скорее похожей на фанерное каноэ. Машина приводилась в действие Французским роторным двигателем «Ле-Рон» мощностью шестьдесят лошадиных сил, в котором (по причинам, которые я когда-то знал, но давно забыл), коленчатый вал оставался неподвижен, а двигатель и пропеллер вращались вокруг него.
Пропеллер был установлен позади кабины пилота - невероятное облегчение, могу вам сказать, так как роторные двигатели смазывались касторовым маслом, и нахождение по нескольку часов сзади и вдыхание паров оказывало внезапное и сильное воздействие на кишечник.
Вся машина выглядела до смешного маленькой - чтобы залезть в нее, приходилось натягивать всю конструкцию как пару штанов, - а мощность двигателя столь незначительной, что в попытке уменьшить вес я снял ботинки с высокими голенищами и краги, какие обычно носили авиаторы того времени, и вместо этого надел чулки и пару резиновых тапочек.
Ко времени, назначенному для демонстрационного полёта, после полудня тридцать первого января, я уже поднялся в воздух, чтобы совершить пару тренировочных полётов над Аббацией, и понял, что машиной легко и приятно управлять. Поэтому я не ожидал трудностей, когда взлетел около двух часов следом за яхтой «Далмат», которая направилась в Порто-Ре в плотном окружении украшенных флажками небольших яхт.
Это был замечательный день в самом начале ранней весны на Адриатике. Деревья на берегу пока стояли голыми, но солнце согревало, и воздух был спокойным и кристально чистым после трёхдневного холодного северного ветра. Я скользил вдоль спокойной сапфировой поверхности залива Аббации и потянул ручку управления на себя, чтобы оторвать корпус от воды. Я перешёл к набору высоты над заливом Кварнер, над яхтой «Далмат» с серебряным следом от волн, рассекаемых форштевнем, затем развернулся вправо, в сторону побережья, набирая высоту. Вскоре подо мной проплывали кипарисовые леса и голые известняковые овраги горы Учка, там я повернул на юг, чтобы лететь обратно к Аббации.
Я собирался еще раз пролететь над заливом, затем спуститься и приземлиться на воду возле «Далмата», а потом снова взлететь и вернуться в гавань Аббации. Дул легкий ветер, поэтому направление приземления роли не играло. Я снизился. Увидел, что пассажиры выстроились у поручней яхты «Далмат» и машут, когда я пролетел в направлении побережья на высоте примерно четырехсот метров справа от яхты.
Я уже летел на высоте пяти или шести метров над почти идеально гладкой поверхностью моря. Сбросил газ, немного поднял нос машины вверх, так что первой точкой приводнения должна была стать хвостовая часть корпуса. При касании я почувствовал легкий удар и сотрясение, потом рев брызг при скольжении по поверхности воды. Мне потом сообщили, что это оказался огромный деревянный брус, оторвавшийся за несколько дней до этого от стапеля при спуске корабля на верфи в Бергуди. Но я ничего об этом не знал - лишь почувствовал внезапный, огромной силы удар снизу, сопровождающийся хрустом, как будто гигантский ботинок раздавил сигарную коробку. Затем отметил, скорее с любопытством, чем со страхом, что я все еще в воздухе, только на этот раз без самолета. Зрители «Далмата» видели, как я ударился о воду, подпрыгнул раза два, как камешек, брошенный вдоль глади пруда, а потом исчез под водой в туче брызг.
Мое следующее воспоминание - как я очнулся в полубессознательном состоянии, погрузившись в воду, и у меня перехватило дыхание. Поддерживаемый велосипедной камерой, которая служила спасательным жилетом, я был смутно раздражён, что правая нога не действует, когда попытался барахтаться в воде. Поблизости раздался скрип уключин, и чей-то голос произнес: «Суши весла!». Чьи-то руки подняли меня на гребной катер и положили на обшивочные доски, а старшина разрезал штанину на моей ноге складным ножом. Он втянул в себя воздух и резко сказал: «Господи Иисусе!», когда увидел всё это кошмарное месиво.
Я слабо попытался сдвинуться - и вскрикнул при первом отвратительном приступе боли в голени, как будто ногу надрезали, заполнили осколками бутылок и зашили снова. Шум, я помню, походил на глухой хруст треснувшей ветки прогнившего дерева.
Тем вечером, лежа в палате больницы Фиуме, я чувствовал себя слабым и больным. Мне ввели морфий, но я был ещё в сознании, когда собравшиеся хирурги сделали заключение, что у меня сложный перелом правых большой и малой берцовых костей. Я также знал, что для таких сложных травм в 1913 году было только одно средство - самое радикальное.