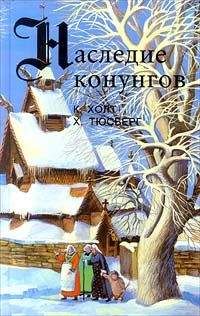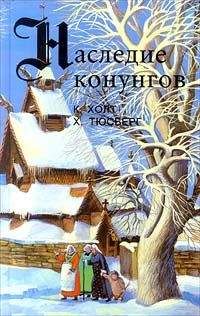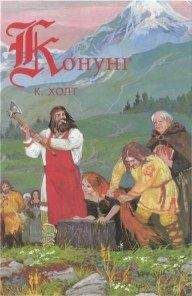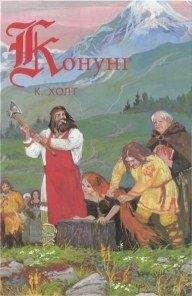Анатолий Коган - Войку, сын Тудора
До слуха беглербея донесся протяжный, глухой вой. Что это было — волчья перекличка или сигналы невидимого врага? Великий визирь обернулся. Его соратники, известные на всем Востоке рубаки, спокойно переговаривались между собой, вокруг слышался размеренный топот тысяч усталых ног, человеческих и конских. Еще час, и надо будет сделать привал, дать людям поесть. Если конечно, кончится мерзкий туман, насланный на это место Аллахом за грехи мусульманского воинства, проклятая белая мгла, из-за которой главнокомандующий не видел теперь своего войска, словно остался совсем один на чужой земле. Странное дело, даже на Босфоре Сулейман-паша никогда не видел такого тумана.
Мысли визиря понеслись назад, к Стамбулу, где протекла большая часть его жизни. Сулейман, как все евнухи, был великим знатоком женщин. Но искусство его было не только в том, чтобы выискивать лучшие из лучших живых жемчужин мира на рынках невольниц, среди полона, приводимого османскими армиями, на улицах турецких и чужестранных городов, в домах, дворцах и замках кяфиров и даже в гаремах мусульман — выискивать и приводить на священное ложе победителя. Его искусство было в другом. Он, как никто, умел мирить свирепых женщин султанского гарема, утихомиривать бурлившие в нем страсти, обеспечивая султанову сердцу покой и отдохновение в любви. И умный Мухаммед, понимая это, умел быть благодарным.
Его постыдное увечье? Сулейман не проклинал его и не стыдился, как евнухи попроще, ибо не был в нем виноват. Тем более, что недостаток оказался полезным: он ввел его в покои, где только сам падишах имел право быть мужчиной. По общему убеждению, такое увечье отнимает у человека лучшее, что есть в жизни. Было ли так и с ним? Может быть, но сам Сулейман, слава Аллаху, этого не знал и никогда не сможет узнать, и что ему чужие слова! Теперь визирю просто смешно наблюдать извечную любовную трагедию жизни, чужую страсть, ослепление, страдания и безумие, рождаемые любовью даже у стариков. Ничего плохого, пожалуй, раннее увечье не принесло Сулейману, кроме уверенности, что самая жестокая тварь на свете — человек. Волк не уродует волка, ворон ворону глаз не выклюет. А человек человека увечит. И таким отпускает жить.
Годы в серале укрепили его в этом убеждении, и Сулейман сам стал жесток — не людям в отместку, а по службе. Он тоже увечил, постоянно готовя юную смену для охраны гарема: опасная служба в серале сильно сокращала евнушью жизнь. Поэтоум визирь возблагодарил всевышнего, когда великий Мухаммед, пресытившись женщинами, возлюбил мужчин. Сулейман стал просить повелителя отпустить его на воинскую службу, и Мухаммед, проливший реки крови, милостиво выполнил странную мольбу увечного раба, ни одним движением не дав понять, как она ему смешна. Только Мухаммед, всесильный падишах: все другие открыто смеялись. Весь Стамбул, потом весь мир. Но вскоре перестали. И смех вообще не слышен более повсюду, где появляется великий евнух со своими бешлиями и янычарами.
В бесплотной белой вате, заполнившей долину, на время снова образовался большой разрыв, и визирь опять увидел часть своего войска. Шли янычары, покачивая на ходу высокими беловойлочными шапками-кавуками. Реяли белые, алые и зеленые хвосты бунчуков над лесом крепких копий, выраставшем из плотного строя акинджи и спахиев, позванивало оружие. Шли с трудом, преодолевая неожиданную беспутицу, но уверенно и гордо, как подобает покорителям стольких стран. За главнокомандующим, по-прежнему в почтительном удалении в три конских корпуса, на баснословно дорогих аргамаках ехали его ближние, знаменитейшие рубаки — не пустая, блистательно-бездельная свита, как у иных полководцев, а отряд искусных военачальников и отчаянных бойцов, способных подать солдатам пример в трудный час любого сражения. И везли, покамест — в парчовом чехле, зеленое знамя пророка, шелковый стяг священной войны во имя веры. Великий муфтий в Стамбуле, правда, не объявлял газавата, но любая война в Европе священна, в этой части света мусульман со всех сторон окружают кяфиры. Визирь почувствовал прилив гордости за свое славное войско, хотя туман опять скрыл его от глаз.
Все это, если быть перед собою честным, была суета сует. Не ради славы Сулейман вступил на поприще воина, ибо знал ей цену, не ради богатства, ибо был богат без меры, и конечно уж не ради женщин, непременной и лучшей добычи солдата. Одного хотел полководец султана: показать миру, что не полчеловека он, а муж. И не женам в постели доказать это, а на поле боя, мужам. А добился лишь того, — визирь с горечью усмехнулся, — что вместе с воинской славой, с внушаемым им страхом по свету расходилось его гнусное прозвище — Евнух, Гадымб. Теперь им пугали детей крестьянки самых дальних стран: Везде, куда доходила молва о его победах, вместе с его именем повторяли глухое мерзкое слово: Гадымб, Гадымб, Гадымб. Пророк был прав, замкнулся круг судьбы. Но мудрый не бежит от нее, мудрый идет судьбе навстречу. И Сулейман каждой весной опять садился на коня, чтобы еще дальше разнести славу своего имени и прозвища.
Ныне поход начат в необычное время, и враг у визиря тоже необычный — бей Штефан, о котором рассказывают удивительные вещи. Суеверные утверждают даже, что князь — чародей, а умные люди предупреждали, что турки могут встретить в нем нового Скандербега. Сулейман этому не верил. Неукротимый албанец усвоил воинский дух ислама, он был учеником лучших военачальников осман и сам водил в сражения их полки. Бей Штефан умен и искусен, но воинской строевой науки ему недостает. Впрочем, войска — тоже. У его воинов-крестьян — широкая разбойничья слава, но дисциплины они не знают, биться против регулярных полков не умеют. Штефан и его люди побеждают, заманив противника в западню. Но такой армии, как его войско, молдавские хитрости не опасны, такую огромную армию ни одна ловушка не вместит. А если господарь ак-ифляков и ухитрился раскинуть для визиря аркан, у него никогда не хватит сил затянуть петлю.
Впереди послышался неясный шум. Потом — несколько глухих ударов, словно по огромному бубну. Кажется, пушки. Неужто бей Штефан осмелился все-таки преградить Сулейману благословенный путь?
— Иса-бек, — позвал главнокомандующий, почти не повышая голоса, — узнай, храбрый лев мой, что случилось. А вы, славнейшие, — он махнул латной перчаткой своим спутникам, — отправляйтесь к своим отрядам. Может быть, неверные решили показать вам лицо и дать наконец работу вашим саблям.
12
Ранним утром князь Штефан спустился из лесного лагеря, где ждали три дня противника молдаване, к горловине широкой долины, куда отправились его пушки. Господарь ради боя надел роскошный плащ, из-под которого блестел стальной нагрудник миланской работы с золотыми литыми украшениями, и островерхий шлем с кольчужным широким нарамником, спускавшимся на плечи воеводы. Штефан уже побывал на выбранной им позиции, проследив за установкой пушек, и теперь, после еще одного совета с капитаном, окончательно оставил опустевший лагерь. Ехавшие с господарем военачальники, по мере движения князя вдоль выстроенных для боя ратей, покидали свиту и присоединялись к своим полкам и отрядам.