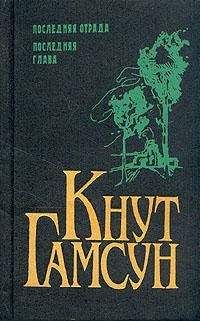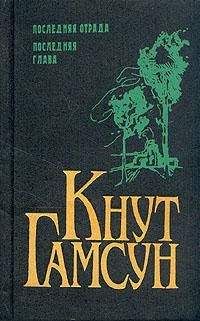Борис Изюмский - Избранное
Ивашка не сразу понял, что это и есть долгожданная соль, – так ее здесь было много.
Какие-то люди в задубевшей одежде, с дощечками, подвязанными к подошвам,[36] и в грубых рукавицах набирали лопатами ил с солью в тачки и по сходням везли на берег, складывали там в длинные соляные скирды – каганы[37] длиной шагов в тридцать, шириной в шесть и локтей в пять высотой.
«Будто стены Киева», – подумал Ивашка, глядя, как скирду обжигали хворостом и соломой, чтобы ее не попортил, не размыл дождь.
От другой скирды, рядом, двое добытчиков топором отбивали куски слежавшейся, обожженной соли.
Но Евсей знал, что эта самосадочная соль «не солкая», а дорогая и надо проехать подальше, к Соляным ключам. Там пришлые артели рыли колодцы, черпали из них рассол и, вылив его в котлы или железные сковороды, добывали белую горьковатую соль, продавали ее лукошками, кадями, пузами.[38]
К полудню киевская валка достигла этих варниц на реке, возле устья.
Вместе с отцом Ивашка подошел к колодцу, где работал водолив. Рядом с ним лежали копье и топор. Видно, и здесь лихо гуляло неподалеку.
Бадья, на таком же, как и у них, в Киеве, журавле, поднимала рассол наверх, откуда его выливали в деревянный желоб, идущий в варницу. Варница была сделана из сосновых бревен – рядов двадцать пять вверх.
Бовкун с сыном зашли в нее. В центре варницы сооружена печь – глубокая яма, выложенная камнем. От едкого дыма, соляных паров нечем дышать. Не иначе, в аду все точь-в-точь так.
Над ямой в подвешенном железном ящике кипятился соляной раствор.
Какой-то кривоногий человек – позже Ивашка узнал, что его зовут варничным поваром, – то и дело подкладывал под ящик дрова, другой – худой, в обносках – шуровал шестом, пробуя, начинает ли густеть соль. Рядом, на помосте, сушилась уже вываренная соль.
Евсей подошел ближе к солевару, сиял шапку:
– Добридень. Принимайте киевскую валку.
– О-о, земляки! У нас есть из-под Ирпеня, – вытащив мешалку, радостно откликнулся варничный повар, заросший до глаз седой щетиной. – Артель сбивать?
– Нет, мы гости-купцы, – усмехнулся Бовкун. – А сколько вас в артели?
– Считай, у каждой варницы восемь работных: подварок, четыре водослива рассол таскают да еще дрововозы. А у нас три варницы.
– Что за люд?
– Все больше бездворные, беспашные, кабальники, бобыли… Пришлый люд… Каждый хочет бадьей счастье выловить.
– Его выловишь! Ты ватаман, что ль?
– Да вроде б меня люди так назвали. – Прищурил смеющиеся глаза. – Был бы лес, а леший найдется…
– Тогда давай, ватаман, рядиться. Кожи у нас есть, крупы, мед. А еще прихватили – может, понадобятся – холстины, чеботы…
Варничный повар снял рукавицы, провел рукой по волосам на голове, словно выжал пот из них.
– Ну-кась пойдем в тенек, пообсудим, – предложил он.
Они долго рядились – Евсей советовался со своими, атаман солеваров – со своими, наконец договорились, а под вечер все собрались на луговине, под горкой, вместе готовили кашу, хлебали ее из одного котла.
Уже в сумерках рябой, с красной кожей лица солевар – атаман назвал его Микифором – сказал угрюмо Евсею:
– Что у нас под Ирпенем, что у вас в Киеве – нашему брату горькая жисть… Душат бояре, воеводы, дыхнуть не дают.
Вместо Евсея задумчиво ответил атаман добытчиков соли:
– Как им не душить, коли не научились мы стоять друг за друга…
– Это верно, – подтвердил пожилой солевар с детски простодушными синими глазами, – всяк Демид стороной норовит… Недавень у нас под Новгородом сотский – злая собака – вдарил мово соседа Антипа Ломаку за то, что тот к сроку долг не возвратил… Шесть зубов выбил… А я только кулаки сжал… да вот сюда подался…
– Хлеба нема, дети мрут! – гневно выкрикнул рябой. – Всюду, по всей Руси.
Загалдели разом несколько голосов:
– Сами мед пьют, а нам шиш дают…
– Чтоб над ними солнце не всходило!..
– Босы, наги, да зато лычком подпоясаны!
– А здесь еще дань кагану плати, чтобы не трогал.
– Хуже некуда…
Этот разговор еще больше растравил Евсею душу. Он долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок. Где же тот Солнцеград? Видно, людям с мозолями на руках по всей Руси худо. И как тот подлый порядок сменить – неведомо.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Уже проехал на своих пегих волах сентябрь, уже вступал на побуревшую степь грязник,[39] сбивая в кучи стрепетов и дроф, когда валка Евсеева двинулась по сырому пути обратно.
Все чаще дул колкий ветер-бурей, вовсе озверели белые кусачие мухи.
Над головой, трубно курлыкая, пролетели на юг журавлиные косяки, быстрым облаком исчезли стаи ласточек, протянулись дуги гусей. Вслед им прорезали блеклое небо степные луни, черные и красные коршуны, лебеди. Только домоседы-жаворонки никуда не спешили.
Потом, расквашивая дорогу, полили сплошные дожди.
Просмоленная одежда спасала людей от сырости, а вот волов дожди мучили: мокрое ярмо до крови натирало им шеи, приходилось все чаще делать привалы.
В таких случаях люди забирались под возы, укрытые рогожами, просмоленными шкурами, и, прислушиваясь к унылому постукиванию капель, вели, вздыхая, разговоры, что вот, мол, в Киевщине уж и отмолотились, и капусту порубили…
Один лишь Ивашка решался делать налеты на грибные владения, притаскивал – отцовское обучение – мясистые красноватые рыжики, вольницы в желто-бурых шапках, покрытые ржавыми пятнами опенки, что растут на гнилых пнях, а то и жир земли – маслята. Ходил Ивашка теперь в лаптях, навернув на каждую ногу по две-три онучи, поверх пускал в переплет оборы, и никакие лужи, грязь не были ему страшны: только знай на привалах у костра подсушивай обувку.
Лапти плести научил Ивашку отец еще дома. Они вместе драли с молоденьких лип лыки длиной в два шага. Потом размачивали их в теплой воде, подрезали полосы до нужной ширины и по колоде плели в десять строк железными крючками – коточиками. А подошву прочнее прочного свивали из веревок. Отец усмехался: «Черт за три года лучше не сплетет».
В один из дождливых дней, когда все попрятались под мажары, Ивашка напомнил:
– Тять, ты обещал поведать о лазутчике Васильке…
Отец огладил усы.
– Ну что ж, послушай. – И стал рассказывать историю бесстрашного мальчонки, что пробрался через печенежский лагерь к воеводе Претичу, позвал его на помощь осажденному Киеву.
Ивашка слушает, затаив дыхание. Он видит себя свершающим подвиг.
Это он, а не Василек, переодевшись в печенежскую одежду, подмазав головешкой края глаз, сделав их раскосыми, ползет по кошачьей траве – пахучему валерьяну – в стан врага. Он, а не Василек обманывает печенежского князя Курю, прикинувшись дурачком с уздой в руке, разыскивающим чалого коня.