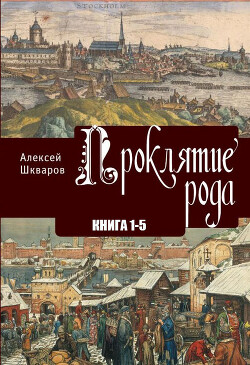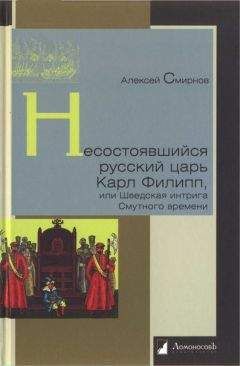Шведская сказка - Шкваров Алексей Геннадьевич
- Перевешать всю жидову вместе с ляхами, бисово отродье! Перетопить в Днепре! – зашумели запорожцы.
- Да щоб свиньи их зъили! Нешто терпеть это можно? – поднялся могучий Бурляй.
- Ось справим ляхам та жидам поминки по душам христианским! – со свистом вылетел клинок кривой из ножен. Шило хищно ощерился.
- А ну геть! Убери шаблюку, Шило! – прикрикнул атаман, подавив в себе ярость и успокаивая разгорячившихся. Встал на ноги, во весь рост богатырский выпрямился.
- Что не веришь, козак? – блеснул на него взглядом чернец. – Коль на Переяславль идешь, там и спросишь сам у владыки Гервасия. Сказывали грамоту он имеет. От царицы русской. Указ императорский подниматься супротив поляков за веру нашу.
- Указ говоришь царский… - задумался Железняк, мыслями в Сечь перенесся. - Нет, не даст кошевой Калнышевский все войско запорожское поднять. На один только курень свой рассчитывать мог Максим. Сколько их? Сотен пять-шесть набрать можно. И все?
Словно мысли козацкие потаенные читая, вдруг произнес монах:
- Близ рогаток пограничных полным-полно козаков обретается, что бежали от войск конфедерации ляхской. Уговорись с ними и ступай, атаман в Польшу, режь ляхов и жидов, все крестьяне и козаки за тебя будут!
- Утро мудренее! – отвечал Максим, подивившись про себя догадливости монаха. – Всем спать! А вы, - головой мотнул, - Шило с Бурляеем, в сторожу.
Добрались козаки с монахом вместе до Переяславля. Показали там Железняку пергамент с указом царским. Титул золотом прописан, правда печать и подпись подделаны. Но кто об этом атаману поведал? Епископ Гервасий сам сказал:
- Поднимайтесь, козаки! Сама царица волю свою изъявляет в помощь вам.
А тут и игумен Мельхидесек объявился. Бежал таки таинственно из лап польских.
- Ничего и никого не жалейте, козаки! Отмстите за веру нашу поруганную! – вещал игумен на площади, рукой иссушенной знаменье крестное творя.
- Гайда! – махнул рукой Железняк. И поднялась вся масса народная, ибо переполнилось терпенье людское, мстить начали – за оскорбление веры предков, за посрамление церквей, за бесчинства панов, за угнетенье, за унию, за власть жидовскую, за все, что скопилось доныне. И пошли гайдамаки, наметом страшным земли польские опустошая. Молодой, но сильный духом Максим Железняк, повел козацкое воинство за собой. С козаками вместе поднялось крестьянство. И содрогнулась Польша!Пощады не было. Впереди сотен козацких лазутчики крались, и появлялись гайдамаки всегда там, где менее всего ожидать их могли. И все тогда прощались с жизнью. Горели деревни, костелы и синагоги, скот, что угнать не могли, избивали, не щадили никого, ни старого, ни младого. Волосы дыбом поднимались от свирепости козацкой. Самая страшная война, это война за веру!
В одной часовне придорожной, приказал Железняк повесить вместе ксендза, еврея и собаку, а на дверях написали: «Лях, жид и собака – всё вира однака».
Высылаемые Варшавой немногочисленные отряды или не могли догнать козаков, или робели при встрече, коней вспять поворачивали, тыл показывая.
Толпы ляхов, евреев, монахов, женщин с детьми искали защиты за городскими стенами, где хоть какая-то надежда была на гарнизон и укрепления. Козаки пока не решались брать города, стороной их обходили. Но силы росли их. Со всех сторон стекались к Максиму люди. Сколь обиженных-то было. Конфедераты, в Баре засевшие, по глупости своей, гнев против Варшавы и России, на православных своих поданных вымещали, ныне и аукнулось. Ширился бунт гайдамацкий. К городам приближался.
Богата была Умань – вотчина князей Потоцких. Губернатором сидел здесь пан Младанович, а казной городской ведал пан Рогашевский. Ох и не любили паны один другого. Все доносы друг на друга писали воеводе Потоцкому. Гарнизон стоял сильный в Умани, оттого не боялась шляхта бунта гайдамацкого, хотя и усилили караулы на стенах и валах, город окружавших. Зорко всматривались караульные в степь, но кроме искавших защиты евреев, пока никто не приближался. Городскими козаками командовал старый сотник Дуска, а в помощниках у него были Гонта да Ярема.
Надоело воеводе Потоцкому разбирать жалобы уманьских губернатора и казначея, отправил туда доверенного своего, пана Цесельского:
- Поезжай! – махнул рукой шляхтичу, - выясни, чего грызутся. А то сотник Гонта мне сказывает, что только этим и заняты паны ясновельможные. Разберись, в чем правда.
По рождению крестьянин села Росошек, имений Потоцкого, приглянулся с малолетства Иван Гонта своему князю. Приметил его Потоцкий, образование дал, выдвинул, в козацкую надворную милицию сотником определил. Выделялся сотник Гонта и среди местного шляхетства, оттого не любили его поляки, завидовали, уничтожить жаждали. А Потоцкий приблизил Гонту, часто вызывал его к себе, отдавал приказы напрямую, обходясь без губернатора.
- А еще, - продолжил Потоцкий, - конфедераты Барские в помощь козаков себе надворных просят. Тому не бывать! Не будут козаки с русскими биться. Прикажешь Младановичу вывести их из города, да на степи поставить. Сам пусть соберет шляхту местную, конную и пешую, трехмесячным припасом за счет казны нашей снабдит, да и отправит в Бар, к пану Пулавскому, коли ему так воевать с русскими не терпится.
Пан Цесельский недолюбливал сотника, как и остальная шляхта. Оттого сидя уже в Умани, меды попивая, делился мыслями с губернатором да казначеем:
- Я, паны ясновельможные, разумею так, что сотник Гонта воду мутит супротив вас. Вознесся сильно, пся крев , думает, одному князю обязан возвышением своим. Мыслю я, паны, надобно с Гонты сотню другую золотых получить, иначе ославим его пред воеводой киевским, нашим благодетелем общим, ясновельможным князем.
- А тяжесть поборов, для припасов милиции, что в Бар направляем, на козачество также возложим. – Ввернул казначей Рогашевский, - нечего истощать казну воеводскую.
- Бардзо добже придумано! – согласились все.
Выслали паны надворных козаков в степь, деньги содрав. И успокоились. Скрипнул зубами от злости Гонта, но до дому съездил, достал денег, высыпал на стол пред шляхтой кучку золота, посмотрел, как алчно глаза разгорелись – дележ предстоял, нахлобучил шапку, и не прощаясь вышел, дверь ногой сильно пнув.
Сидел в степи Гонта, хмурился, раздумывал. Раз даже заговорил со старым Дуской про гайдамаков, про Железняка. Болел сильно старик, лежал больше на телеге, люльку посасывал. Чуял, что смерть близка. Поманил рукой сотника, чтоб пониже к нему нагнулся, говорить тяжело было старому, и шепнул:
- Семь недель с Железняком попануете, а семь лет вас потом вешать и четвертовать будут!
Эх, надвигалась беда на Умань, а шляхта беззаботная и ухом не вела. Одни евреи, вечно гонимые, чутьем звериным инстинктивным, понимали – быть беде. Все знали, про все ведали. Спасения искали. Пошли старейшины еврейские до панов Цесельского и Младановича, кланялись низко, трясли бородами и пейсами длиннющими:
- Надобно панам ясновельможным опасаться сильно сотника Гонту. Верные люди сказывали обижен он на шляхту. Подбивал на бунт старого Дуску, только помер тот на днях, ныне Гонта над всеми козаками уманьскими за главного. Коли не запрете сотника, пан ясновельможные, беде быть. Железняк уже неподалеку от Умани. Переметнется Гонта к нему. Просим защиты у вас, панов великодушных, а в знак признательности нашей, что не откажете евреям бедным, примите подношение в три тыщи золотых червонцев.
Переглянулись Цесельский с Младановичем. Железняк-то где еще, стены у нас крепкие, комендант надежный, пушки имеются, а золото… вот оно. Кивнули важно, защиту пообещали. И вызвали Гонту срочно в город. Прискакал сотник и в кандалы тут же взят был. Народ на площади собрали, быстро виселицу соорудили. Но в толпе многие хмурились, знали сотника, как доброго козака, как любимца самого воеводы киевского Потоцкого. Не стерпела пани Обуховская, вдова полковничья, за всех крикнула Цесельскому:
- Не гоже пана Гонту по навету казнить! Всем ведомо, как любит его пан Салезы Потоцкий! Оставьте в живых, ручаюсь за него!