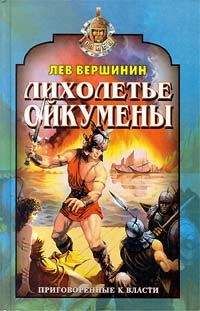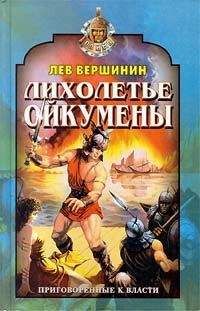Лихолетье Ойкумены - Вершинин Лев Рэмович
Ноздри македонца мгновенно напрягаются, словно у ищейки, почуявшей дичь. Он даже не спрашивает, о ком говорит раненый. Он понимает с полуслова.
– Ты был с ними?
– Да! Меня взяли с собой. Других рабов не взяли, а меня прихватили. Я ведь очень дорого стою, вот меня и хотели подарить иллирийцам. Но я бежал! Поспеши же, господин, иначе опоздаешь…
Лютая ненависть, переливаясь через край рассудка, клокочет в глотке оружейника.
Нельзя медлить! Ближние Эакида уже почти у иллирийских рубежей, им немного осталось шагать до реки, а там – хоть и половодье, а брод отыскать можно, если как следует постараться, хороший брод, такой, что и мулы сумеют преодолеть бурный поток…
Спешите! – гримасой и взглядом требует бывший раб. – Не дайте спастись отродью Эакида!
– Мой сын умер у них, как никому не нужный щенок! – кричит он вслух. – Сына за сына! Пойдем, господин, я укажу вам короткий путь!
Глаза вонзаются в глаза.
И сотник сознает: это – удача. Сказать по правде, он почти не надеялся уже нагнать уходящих, он готов был к неуспеху и к наказанию.
Но теперь…
– Сам Зевс-Воинствующий послал тебя на нашу тропу, почтенный мастер! Веди! Ты не пожалеешь, что помог нам!
И отряд трогается с места.
Через напоенную запахом смерти лощину, через размокшие в болотца пласты снега, проламывая хрусткие кустарники, раздвигая низко опущенные, еще не избавившиеся от хрупкой наледи ветви, – вперед.
Теперь идти легче. Не нужно принюхиваться, ловя малейшие оттенки запахов леса. Впереди – проводник. Там, в Додоне, никто не согласился вести наемников Кассандра в погоню за ближними Эакида. Ни один. Жители здешних мест словно сговорились. Не помогли ни угрозы, ни посулы, ни плети. Даже те, кто не смог скрыть жадного блеска в глазах при виде увесистого кошеля, отшатывались и мотали головами…
Это козни томуров – пояснили хаонские союзники. Служители Священного Дуба издавна в сговоре с царским родом, и они всегда и во всем держат сторону Эакидов. Конечно, царевич Неоптолем – тоже Эакид, спору нет, но Дуб немилостив к убогим разумом. А уж если томуры пригрозили гневом Отца Лесов, то ни один из молоссов не посмеет ослушаться их воли.
Но боги милостивы! Вот он, проводник, лучше которого и представить невозможно! Не страхом вынуждена помощь, не золотом куплены услуги. Ненависть к уходящим в Иллирию – вот залог его верности. Такой не собьется с тропы. Уверенно шагает сквозь сугробы бывший раб, прощупывая путь длинной узловатой палкой. Изредка останавливается, всматривается в снег, разглядывая незаметные чужому глазу, лишь одному ему известные приметы.
На лице его – вдохновенная, торжествующая улыбка.
Почти не отставая от него, спешит, изредка оскальзываясь и чуть слышно бранясь, сотник. Лицо его сосредоточено и радостно. Приказ наместника, вопреки всему, будет исполнен! Эакидовы подручные не успеют уйти за реку, казна Эпира вернется в Додону, а цареныш, живой или мертвый, окажется в кожаной заплечной сумке, специально для того припасенной македонцем.
«Лучше – живой», – был приказ. – «Но и мертвый тоже не вызовет нареканий. Главное – перехватить…»
Что ж. Руки развязаны. Он, конечно, не станет убивать пащенка. Мужчины не воюют с сосунками. Но он возьмет драгоценную добычу и в целости доставит в Додону, а там уж пусть с сыном Эакида поступят по своему разумению те, кто мудрее его, сотника вспомогательных частей легкой пехоты, по незнатности рода и неумению прислуживать застрявшего до седых волос в этом малопочтенном звании. Зато – не может быть сомнений! – великому Кассандру доложат о несомненном успехе и помянут, пусть мельком, скромное имя исполнившего волю наместника. А вот тогда-то можно не сомневаться: спустя несколько дней под его началом будет уже не сотня презренных наемников-варваров. Он станет сотником тяжелой пехоты, самое меньшее. И это – уже совсем иное положение и доход. А может быть – улыбнись, госпожа Удача! – сын Антипатра будет в хорошем настроении, и удачливый воин удостоится даже зачисления в этерию!
Подумать только: алый плащ гетайра!
Накинуть на плечи, пройтись по Пелле, навестить старика отца, не смеющего и мечтать о таком, – и тогда можно спокойно умирать. Разумеется, в бою. Во славу великого Кассандра!
Мечта помогает торопиться.
Шаг за шагом. Тысяча шагов. Две тысячи. Пять.
Звонкий воздух весенних гор чуть темнеет.
За спиной сотника все отчетливее слышится недовольный ропот наемников.
Фракийцы перекидываются на ходу короткими рублеными возгласами, и голоса их все злее и злее. Они, в отличие от сотника, горцы, и они видят и понимают: что-то здесь не так. Пусть эти теснины незнакомы, но горы есть горы, они в родстве между собой, и рожденному среди ущелий и отрогов ни за что не спутать нехожeную тропу с уже пройденной.
Наемники видят то, на что пока еще не обращает внимания сотник, хоть и умудренный жизнью, но выросший на равнине, где все стежки на одно лицо: вот встопорщенный, похожий на ежика куст, вот сугроб, развалившийся, словно медведь на боку, а вот и тройное дерево, точь-в-точь трезубец Посейдона, прихотливо раскинувшее ветви.
Нет под небом гор двух троп-близнецов.
Может, конечно, все это шутки проказливых снежных демонов, любящих отвести глаза усталому путнику.
А возможно, демоны здесь и ни при чем.
Тогда…
Наконец и македонец замечает неладное.
– Эй, постой-ка, друг! – говорит он вроде бы даже удивленно, но давешнее благожелательное дружелюбие в голосе быстро иссякает. – Когда же река, любезный? Успеем ли до темноты?
– Всего пять сотен шагов, господин!
Вполне искренне звучит, безо всякой тревоги.
Ну, если так… Македонец прибавляет шаг, заставляя поторапливаться и фракийцев. Скорее! Нужно во что бы то ни стало поспеть до тьмы!
Сто шагов. Еще сто. Еще. Еще!
Последний рывок.
Лощина.
Восемь распластанных на снегу, уже застывших человечьих тел. Пять мохнатых мертвых бугорков, грязновато-белых, словно весенний снег. И шесть мертвецов, заботливо привязанных к ветвям, повыше от земли.
Полный круг совершил отряд.
И уже не успеть до сумерек. Не догнать тех, кто ушел.
А на устах проводника – счастливая улыбка.
«Зачем?» – безмолвно спрашивает македонец, медленно обнажая меч, и смутный блик розовой закатной зари мельтешит в его зрачках, словно краешек улетающего в никуда алого плаща гетайра.
Проводник, раб, мастер, спаситель, лжец, открывает было рот, но, передумав, лишь сплевывает на пористый снег.
Разве не ясно, зачем? Да затем же, что там, на бурной реке, отделяющей эпирские земли от иллирийских угодий, в эту пору не найти брода, как ни ищи. А наладить переправу – дело нелегкое и нескорое. Нужно было время, чтобы ищейки не вышли на берег раньше, чем следует…
Но – отвечай не отвечай – разве они поймут?
Они, не знающие, что такое рабский ошейник и цепь, удерживающая тебя в ненавистной кузне. Он ведь сказал им чистую правду о себе и о своей судьбе. В одном покривил душой: не эпироты поработили его, мастера с разбитого корабля, а единокровные эллины из приморской Амбракии. Ушлый горожанин обомлел, узнав, кто попался ему в руки на дешевой распродаже, и запретил под страхом смерти невольнику по кличке Кролик открывать свое настоящее имя…
Зачем говорить об этом?
Воины есть воины. Они делают людей рабами и даруют свободу за оказанную услугу, словно кому-либо, кроме Олимпийцев, дано даровать смертному подлинную свободу…
Разве сейчас, здесь, за миг до смерти, он – не самый свободный из всех?
Тишина в темнеющем лесу.
Слова излишни.
В глазах фракийцев – злоба и невольное уважение. К обманувшему проводнику. К засаде, которая умерла ради того, чтобы обман показался правдоподобным. И досада. На глупого, не по уму кичливого македонца, не сумевшего разглядеть хитрую вражескую уловку…
– Умри! – не вынеся насмешливого взгляда лжеца, истерически визжит потерявший лицо сотник, в скором будущем, несомненно, обычный десятник легкой пехоты.