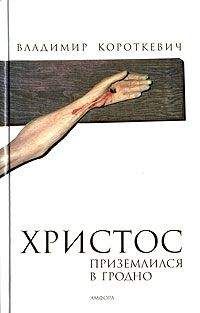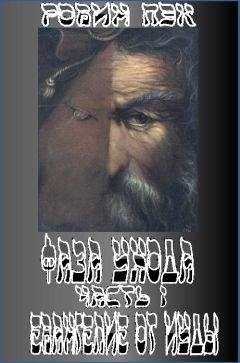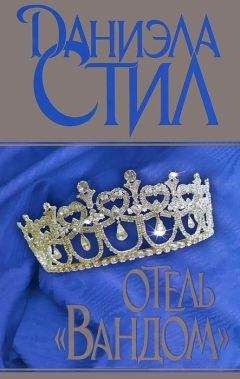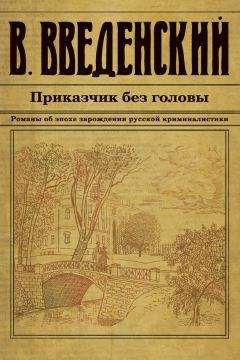Владимир КОРОТКЕВИЧ - Христос приземлился в Гродно (Евангелие от Иуды)
Да ещё, высоко за столом, весь великий гродненский синедрион. Войт Жаба – от замкового и магистратского суда, один в двух ипостасях; Устин и советники – от магистрата, суда советников и суда присяжных; Болванович с четырьмя безликими попами да Лотр с Комаром и Босяцким – от суда духовного.
Иосия показал Братчику глазами на конец дыбы. Чтобы противовес был длиннее, конец этот просунули в отверстие у дверей пыточной: правосудие напоминало подсудимым, что оно есть такое, намекало, каково оно, приподнимало краешек гордой и красивой маски, открывая свое лицо.
Плутовская физиономия Юрася искривилась. Он вздохнул.
– Зал человековедения, – прошептал иудей.
Братчик невесело усмехнулся.
– Здесь сознаются в том, чего не делали, – сказал Иосия.
– Ну, это не новость, – одними губами выговорил Братчик.
Грянул удар молотка.
– Так вот, – произнёс Лотр. – Что заставило вас, мерзкие еретики, имена Христа, Пана Бога нашего, и апостолов Его себе приписать и присвоить?
– Мы лицедеи, – с уксусной улыбкой ответил лысый Мирон Жернокрут. – Точнее, я лицедей. Их я просто взял в товарищи. Остальные, бывшие мои товарищи, меня выгнали.
– Вместе с фургоном? – спросил Босяцкий.
Молчание.
– Хорошо, – продолжал Лотр. – А что заставило вас, несчастные, пойти с ним? Ну вот хотя бы ты, мордатый? Как тебя?..
Молодой белёсый мордоворот испуганно заморгал глазами:
– Хлеб.
Синедрион даже не переглянулся. Но каждому словно стукнуло в сердце. Эти дни… Суд над мышами… Избиение хлебника… Сегодняшняя анафема… Побоище на Росстани… Возможно, заговор… Общее недовольство… И тут ещё эти.
– Хлеб? – с особой значительностью переспросил Комар.
У Братчика что-то заныло, замерло внутри. Сначала Пархвер показал им секрет Железного Волка, который, возможно, мог спасти короля от нападения. Теперь им задали такой вопрос. Он понял, что спасения нет и что знает об этом он один.
Юрась покосился на остальных. Зрелище, конечно, не из лучших. Рядно, кожаные поршни, спутанные волосы. Морды людей, добывающих ежедневный кусок хлеба плутовством и обманом.
– Жернокрут врёт, – сказал он. – Все они пристали ко мне. Мы, понятно, немного плутовали, но не сделали ничего плохого. И если даже совершили неизвестное нам преступление, отвечать мне.
Лотр пытливо смотрел на него. Высокий, очень хорошо сложенный, волосы золотые, а лицо какое-то смешное: густые брови, глаза неестественно большие и прозрачные, лицо помятое. Чёрт знает, что за человек.
– Ты кто? Откуда?
– Юрась Братчик с Пьяного Двора. Селение Пьяный Двор.
– Проверь там, – велел Лотр пану земскому писарю.
Писарь зашелестел внушительного размера листами пергаментной книги. Это был «Большой чертёж княжества». Кардинал смотрел человеку в глаза. Они не моргали. Наоборот, Лотр внезапно почувствовал, что из них будто бы что-то льётся и смягчает его гнев и твёрдую решимость. Не могло быть сомнения: этот пройдоха, этот шельмец, торгующий собственным плутовством, делал его, кардинала, добрее.
Лотр отвёл глаза.
– Нет такого селения Пьяный Двор, – испуганно пролепетал писарь.
– Нет? – спросил Лотр.
– Правильно. Нету. Теперь его нет. И жителей нет, – согласился Юрась.
– Ну-ну, – вспыхнул Комар. – Ты тут на наших душах не играй. Татары их что ли, побили?
– Татары, только не обрезанные. Не раскосые. Не в чалмах.
Босяцкий сузил глаза.
– Ясно. Не крути. Почему нет ни в чертеже, ни в писцовых книгах?
– И не могло быть.
«Ясно, – подумал Устин. – Ушли, видно, в лес, расчистили поляну да жили. А потом явились… татары… и побили. За что? А Бог его знает за что. Может, от поборов убежали люди. А может, сектанты. Веру свою еретическую спасали. И за то, и за другое выбить могли».
– Беглые? – спросил Болванович. – Вольные пахари лесов?
– Не могу уверенно подтвердить, – ответил с усмешкой Братчик. – Мне было семь лет. Я вырос на навозной куче, а возмужал среди волков.
– Так, – протянул Лотр. – Ты говоришь не как простолюдин. Читать умеешь?
– Умею.
– Распустили гадов, – буркнул Жаба.
– Где учили?
– В коллегиуме.
«Ясно, – снова подумал Устин. – Родителей, видно, убили, а дитя отдали в Божий дом, а потом, когда увидели, что не подох, взяли в коллегиум».
Он думал так, но ручаться ни за что не стал бы. Могло быть так, но что мешало пройдохе солгать? Может, и вовсе никакого Пьяного Двора не было, а этот – королевский преступник или вообще исчадие ада.
– В каком коллегиуме?
– Я школяр Мирского коллегиума.
– Коллега! – взревел Жаба. – «Evoe, rex Jupiter…». [62]
Лотр покосился на него. Жаба умолк. Бургомистр Устин видел, что все, кроме него и писаря, смотрят школяру в глаза. Он не смотрел. Так ему было легче.
Писарь листал другую книгу.
– Нет такого школяра, – объявил он. – Ни в Мире, ни во всех коллегиумах, приходских школах, бурсах, церковных и прочих школах нет такого школяра.
– Да, – признал Братчик. – Теперь нет. Я бывший мирский школяр.
Писарь работал, как машина:
– И среди тех, что окончили и одержали…
– Меня выгнали из коллегиума.
Странно, Устин физически чувствовал, что этот неизвестный лжёт. Может, оттого, что не смотрел ему в глаза. И он удивлялся ещё и тому, что все остальные верят этому бродяге.
– За что выгнали? – проснулся епископ Комар.
– За покладистость, чуткость и… сомнения в вере.
Устина даже передёрнуло. Верят и пытать не будут. Верят, что ты из Пьяного Двора, что ты школяр. Но что же ты это сейчас сказал? Как с луны свалился, дурило. Расписался в самом страшном злодеянии. Будь здесь Папа, Лютер, все отцы всех церквей, для всех них нет ничего хуже. Теперь конец. И как он следит за лицами всех…
– Иноверцам, видимо, сочувствовал? – спросил Лотр.
Юрась молчал. Смотрел в лица людей за столом. Одна лишь ненависть читалась на них. Одно лишь неприятие. Братчик опустил глаза. Надеяться было не на что.
– В чём сомневался?
– В святости Лота, пан Лотр. Я читал… Я довольно хорошо знаю эту историю. Ангелы напрасно заступились за своего друга. Не нужно было поливать нечестивые города огнём. Не стоило это спасения единственного праведника. Только он избежал опасности, как сотворил ещё худшее. Всюду одна гадость. Медленно живут и изменяются люди. Трудно среди них жить и умирать. Но что поделаешь? Вольны мы появиться в этом мире и в это время, но не вольны его покинуть. Каждого земля зовёт в свой час.
– Что-то дивное ты вкладываешь в уши наши, – елейно пропел Босяцкий. – Ни хрена не понять… Ну?