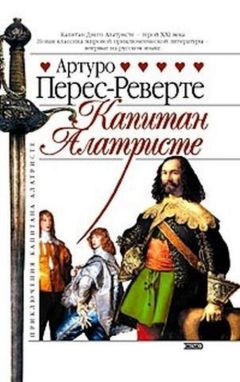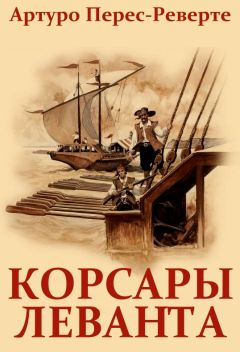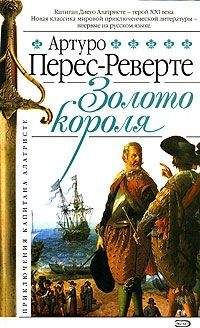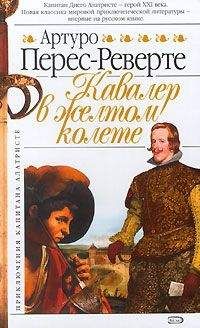Артуро Перес-Реверте - Капитан Алатристе
– Твои заказчики вполне могли бы оказаться агентами Венеции, Савойи, Франции или еще дьявол знает чьими… Ты уверен, что они – испанцы?
– Такие же, как вы да я. Испанцы – и благородного происхождения.
– Вот уж за это ручаться нельзя. Теперь куда ни плюнь – не в идальго попадешь, так в кабальеро.
Вчера мне пришлось рассчитать своего цирюльника, который явился брить меня со шпагой на боку – спасибо, что не ею. Ныне даже лакеи подались в благородные. А поскольку работа есть бесчестье, ни одна собака в этой стране не работает.
– Те, кто нанимал меня, – отнюдь не лакеи. Но испанцы.
– Ладно. Испанцы или не испанцы – не в том суть. Как будто чужеземцы не смогли бы заплатить нашим, чтобы те обтяпали это дело… – Граф горько хмыкнул. – Милый мой, в нашей заавстрияченной державе вельможу купить не трудней, чем конюха, были бы деньги. У нас на продажу выставлено все, кроме национальной чести, да и ту загнали бы при первой возможности да по сходной цене. А о прочем что уж говорить… – Он поглядел на Алатристе поверх края серебряного кубка. – О наших шпагах, например.
– О наших душах, – поставил точку капитан.
Гуадальмедина, не сводя с него глаз, глотнул вина.
– Вот именно. Не исключено, что эти люди в масках состоят на жалованье у нашего славного понтифика Григория Пятнадцатого. Его святейшество испанцев видеть не может даже на картинке.
Большой, отделанный мрамором камин не был разожжен, солнце, проникавшее в комнату, пригревало лишь чуть-чуть, но при этих словах капитана бросило в жар. Зловещая фигура доминиканца Эмилио Боканегра мгновенно воскресла в памяти – всю прошлую ночь монах не давал Алатристе покоя: лицо его возникало то на темном потолке, то вырисовывалось в листве стучавших в окно деревьев. Вот и дневного света оказалось недостаточно, чтобы проклятая тень сгинула. От произнесенных Гуадальмедина слов она вновь обрела плоть.
– Кем бы ни были они, – продолжал граф, – цель их ясна: расстроить свадьбу, жестоко проучить Англию и развязать войну. А ты, занеся, но опустив руку со шпагой, погубил их замысел. Ты в совершенстве превзошел искусство заводить врагов, ты в этом деле несравненный дока, докторскую шапку впору получать. Беда в том, что я больше не могу тебя прикрывать и даже оставить тебя здесь не могу: это чревато большими неприятностями уже для меня самого… На твоем месте я бы уехал – далеко и надолго. А о том, что знаешь, не говори никому – ни единой живой душе, даже на исповеди, ибо если духовник услышит такое, он повесит свое облачение на гвоздик, продаст тебя и разбогатеет.
– Ну а что англичанин? Ему больше ничего не грозит?
– Разумеется, нет, – сказал Гуадальмедина. – Теперь, когда вся Европа знает об этой эскападе, принц Уэльский может чувствовать себя в Мадриде так же уверенно, как в своем проклятом Тауэре. Король и Оливарес твердо намерены тянуть и волынить, кормить обещаниями и посулами до тех пор, пока он не плюнет да не вернется домой с попутным ветром.
Однако безопасность Карлу они уж как-нибудь да обеспечат. Тут одно с другим путать не надо… Кроме того, – добавил он. – Оливарес – большой мастер находить неожиданные решения, и ему совершенно не обязательно играть по написанным нотам. Он придумает что-нибудь новенькое и уговорит короля.
Знаешь, что сказал он сегодня утром в моем присутствии? Что если Рим не разрешит бракосочетание и инфанту не смогут отдать Карлу в жены, он получит ее как любовницу. У этого Оливареса – гениальная голова! С ним держи ухо востро – сожрет и не подавится! А Карл – доволен и считает, что уже заключил Марию в объятия.
– А как она ко всему этому относится?
– Ну как она может относиться в восемнадцать-то лет? Позволяет себя любить. То, что еретик королевской крови, молодой и приятный на вид, оказался способен прискакать сюда, ее и отталкивает, и пленяет. Но ведь она – инфанта Кастильская, и каждый ее шаг предусмотрен и расписан. Сильно сомневаюсь, что их хоть на мгновение оставят наедине – «отче наш» сказать не дадут, не то чтобы чего другого позволить. Знаешь, по дороге домой мне в голову пришло начало сонета:
Уэльский принц явился к нам до срока –
Принцессу нашу сватает держава…
– А? Как тебе? – стихотворец пытливо взглянул на Алатристе, но тот лишь чуть заметно улыбнулся, благоразумно воздерживаясь от суждений. – Ну, до Лопе мне, конечно, далеко, и твой друг Кеведо наверняка сыщет здесь тьму погрешностей – а все же недурно, на мой взгляд! – Граф допил вино, скомкал и швырнул на стол салфетку и поднялся. – Возвращаясь к политике, скажу тебе, что союз с Англией очень бы помог нам противостоять Франции, ибо опасней ее для нас в Европе нет никого – ну разве что протестанты. Лучше всего было бы со временем перестать артачиться да сыграть свадьбу, хотя, судя по тому, какие речи слышал я сегодня от короля и Оливареса, вряд ли это произойдет.
Он сделал несколько шагов по комнате, снова взглянул на гобелен, утащенный его, отцом из Антверпена, и в задумчивости остановился у окна.
– Одно дело – прирезать ночью безымянного чужестранца, которого вроде бы здесь и нет, и совсем-совсем другое – покуситься на жизнь внука Марии Стюарт, гостя нашего обожаемого монарха и будущего повелителя Англии. Время упущено. А потому могу себе представить, в каком бешенстве пребывают твои заказчики и как они алчут мести. Кроме того, ты – свидетель, а чтоб свидетель молчал, его лучше всего убрать. Мертвец не проболтается. – Он пристально поглядел на капитана. – Улавливаешь? Ну и славно. Ладно, заболтался я с тобой, а у меня еще много дел… Вот сонет надо дописать. Так что уноси ноги, капитан Алатристе. Ступай с Богом.
* * *
Весь Мадрид высыпал на улицы, и к Семитрубному Дому началось настоящее паломничество. Любопытствующий народ пестрой толпой валил по улице Алькала до церкви Кармен-Дескальсо, толпился напротив резиденции английского посла, где натиск его не слишком ретиво сдерживали несколько полицейских, и восторженно рукоплескал всякий раз, как из ворот или в ворота следовала карета. Зеваки дружными криками требовали, чтобы принц Уэльский вышел к ним, и устроили настоящую овацию светловолосому юноше, который, появившись на мгновенье в окне, сделал им ручкой – да так приветливо и милостиво, что пленил горожан окончательно. Такой уж у нас в Мадриде народ: завоюешь его сердце – все тебе отдаст, ничего не пожалеет; и все то время, что наследник британского престола провел у нас, люди без устали выказывали ему свою приязнь и расположение. Думается мне, что иной была бы злосчастная история нашей Испании, если бы душевные порывы населяющих ее чаще принимались в расчет, а жесткое понятие «государственные интересы» вкупе с себялюбием, продажностью и бездарностью власть имущих сторонилось и отступало, пропуская вперед великодушие. Начнешь размышлять над горестной историей нашего народа, неизменно и безотказно отдающего все лучшее, что у него есть – свое простодушие, свои деньги, свой труд, свою кровь, – и почти ничего не получающего взамен, невольно вспомянешь и не раз повторишь строчку старинного романса о Сиде: «Чтоб хорошим быть вассалом, надобен сеньор хороший».