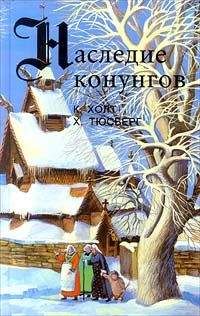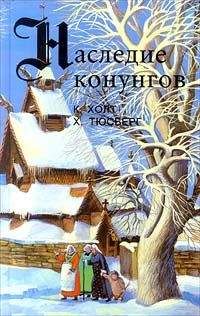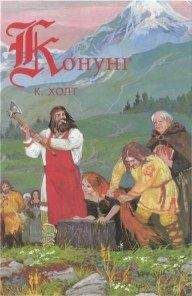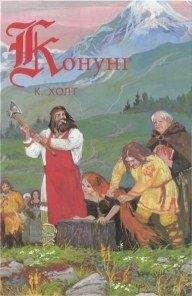Анатолий Коган - Войку, сын Тудора
— Живу у моря, — проворчал кто-то из белгородцев, — но ни разу не видел еще такого проклятого тумана.
Войку усмехнулся. Уж он-то знал, что многие сегодня, возможно, будут благословлять опустившееся на землю плотное белое облако. И мысль его вернулась к Белгороду, к отцу, к оставшимся товарищам. Будут ли они гордиться им, если узнают, какое почетное дело доверил ему вчера Штефан-воевода? Доверил, конечно, не без содействия друга, которого за эти месяцы так приблизил к себе за верность; без московитина князь, наверное, и не вспомнил бы о юноше из Четатя Албэ, еще ничего не успевшем, по малости лет, совершить. И вот благодаря Володимеру такое становится для него доступным; отныне Чербул его неоплатный должник на всю жизнь. Только сумеет ли он отблагодарить верного товарища? Ему, Войку, хорошо, у него — и отец, и добрый учитель, и дядька Ахмет. Множество друзей, родина, любимый и прекрасный город, где так вольно дышится над лиманом, на вершине крепостной стены. У Влада всего этого нет. И нет на свете человека, способного наделить всем этим смелого молодого скитальца. Только судьба. Но как сказать судьбе, что должно ей сделать для твоего друга?
Войку вспомнил одну из бесед у костра, за чаркой красного вина, когда трое витязей делились воспоминаниями о доме, о родных местах. Он задал тогда Володимеру неосторожный вопрос, почему тот не едет домой, на Москву, не вступает на службу к великому князю Ивану. У Москвы ведь лютых врагов не меньше, чем у Молдовы. Влад ответил ему тогда странным взглядом.
— Был я тогда в степи, — начал он рассказывать, — служили мы ватагой то одному пану, то другому, и провожали как раз посольство великого князя из московских земель через Поле в Крым. Бояре-послы, надо сказать, охотнее набирают в охрану казаков, ибо кто от степного волка лучше обережет, чем они, казаки? И вот, заночевав у кургана, услышал я сквозь сон чью-то тихую речь. То сам великий посол подышать звездным духом из шатра вышел с дьяком, да возле меня, не приметив, остановился. Спал я по привычке — вполглаза, но как услышал их разговор — пробудился совсем. Посол учил помощника, боярского же сына, уму, и толковал с ним, как получше выполнить государев наказ. А каков тот наказ был — не забыть мне уже до смерти.
Влад отпил большой глоток тигечского.
— Приказал им великий князь Иван, как прибудут в Крым, побуждать хана на новую войну с Литвою и Польшею. Чтобы еще до зимы шли татары на Подольщину да к Киеву, в великое княжество Литовское, да больше жгли на этих землях и полонили, дабы ворогу его Казимиру крепче урон был. Слово в слово на веки вечные врезался мне в память повторенный послом наказ православного государя. «Говорить накрепко царю, то есть хану, чтоб пожаловал, правил великому князю московскому по своему крепкому слову и по ярлыкам, королю шерть-клятву сложил да и рать свою на него посылал бы. А так станет царь посылать свою рать на литовскую землю, то посол должен говорить царю о том, чтобы пожаловал царь, послал свою рать не куда в иное место, а на Подольскую землю и на киевские места.»
— Это понятно, — серьезно кивнул присутствовавший при той беседе пан Бучацкий, — Подолье и Киев — плохо защищенное брюхо польско-литовской державы.
— Плохо защищено, да людей на нем густо, — кивнул московитин, хорошо помнивший те места. — Как ни зорят Подолье да Киевщину проклятые ордынцы, — все не могут вконец опустошить. Хан, конечно, тогда послушался, — невесело усмехнулся Володимер, — послы привезли ему великие поминки — дары. И в тот же год татары взяли Киев. Половину жителей рабами угнали в Крым, половина задохнулась в пещерах над Днепром, куда спрятались от бесерменов. Кабы не вольные люди, по Днепру сидящие, сгинули бы все. Да спасибо казакам, отбили часть полона у нехристей.
— А ты ведь, Владек, тому делу пособняк, — заметил пан Велимир, вертя перед глазами полный кубок. — Сам же подарки князя охранял, сам послов берег от разбойников Поля.
— Я в ту же ночь от ватаги ушел, — мрачно возразил Влад. — До сих пор грызу себя: зачем змею-боярина не убил.
Пан Велимир тихо засмеялся.
— Зря ты, добрый молодец, на князя Ивана обиду затаил. То есть политика, высокая политика. Я — поляк, по крови тоже киевлянам близкий, род наш тянется от русинских князей Галича, однако же вполне могу думу московского государя уразуметь. Казимир-король ему сосед, а значит — враг. Хан Казимира грабит, войска его от рубежей Москвы отвлекает, значит, Ивану хан — лучший друг. Плох был бы государь, который мыслил и поступал бы иначе. Князь Иван к тому же Русскую землю под единую руку свою собирает, великую силу копит. От этого его вражда с Казимиром еще лютее. Князь рушит новгородское своеволие, а Казимир ему в том мешает, вольности новгородцев помощь подает. Князь великий теснит и грабит малых своих князей, а король принимает их с лаской, когда к нему бегут. Чем недругу моему досаднее, тем лучше мне. В том политика государей, хлопец!
— Такую политику, — Володимер отставил кубок, — я видел и у степных атаманов, по степям скитаясь. Когда ватага на ватагу идет, каждый норовит третью в помощь себе позвать.
— Спору нет, — кивнул Бучацкий, — только так ведь и до кумушек-соседок, через плетни сварящихся, дойти можно: у тех тоже своя политика, в сущности — такая же. Только все это зря, не мы с вами, панове, переделаем мир, каков он есть от римских цесарей, а может быть, и раньше. И ты, братец Чербул, напрасно завел этот разговор. Рыцарь — человек вольный, и государя, кому служить, выбирать себе по нраву волен же. Служат ведь польские воины французскому королю, французские — венгерскому, немецкие и итальянские — султану. И винить их никто не смеет, на то — шляхетская воля. Так что и ты, Владек, волен служить палатину Штефану, моему государю на этот поход. Может быть, — хитрый лях неопределенно ухмыльнулся, — князь Штефан окажется лучше князя Ивана.
Эта усмешка невесть почему внезапно вспомнилась Войку. И больно кольнула его теперь. Иван и Степан, великий князь Иоан Васильевич и господарь Штефан, сын Богдана… Неужто его князь тоже — лишь орудие, послушный раб жестокой и бесчестной силы, которую вельможный пан Бучацкий назвал непонятным словом политика?
Ехавший перед ним лихой старец внезапно остановил коня.
Пока молодой начальник маленького отряда терзался трудною думой, воины спустились с холма на дно широкой долины. Туман на время поредел, и сквозь его просветлевшие клубы бойцы увидели, что лес в этом месте кончался.
Деревья небольшим клином врезались тут в плоскую низину, образуя крохотную, но довольно густую, опушенную кустарниками рощицу, в которую и повел их отец Панаит.