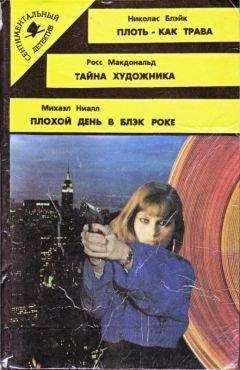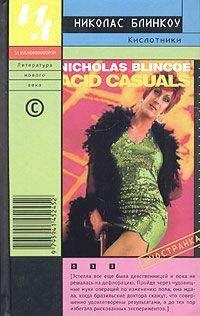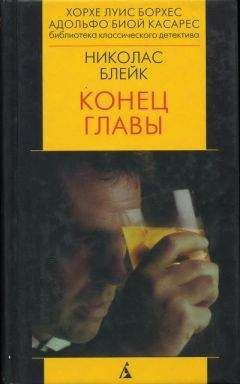Артуро Перес-Реверте - Золото короля
— Если вы имеете в виду генуэзца, то это было нетрудно, — хмуро отвечал капитан.
И замолчал надолго. «Случалось вляпываться и в дела погрязнее», будто говорило это молчание. Ольямедилья, судя по всему, истолковал его правильно, потому что медленно склонил голову, как бы показывая, что принимает сказанное к сведению и по тонкости душевного своего устройства в расспросы вдаваться не намерен. Что же касается Джеронимо Гараффы и его слуги, то в эту минуту их обоих — связанных, с заткнутыми кляпом ртами — закрытая карета увозила из Севильи в сопровождении нескольких зловещего вида альгвазилов, которых Ольямедилья, вероятно, оповестил заранее, ибо появились они в доме генуэзца как по волшебству и, уняв любопытство соседей волшебным же заклинанием «Святейшая инквизиция! », унеслись вместе с арестованными в сторону Кармонских ворот. Куда лежал их дальнейший путь, капитан не знал и ни малейшего желания знать не испытывал.
Ольямедилья, расстегнув камзол, извлек из внутреннего кармана вдвое сложенную бумагу, скрепленную сургучной печатью, подержал ее несколько мгновений на весу, будто отгоняя последние колебания, и положил на стол перед капитаном.
— Платежное поручение, — возвестил он. — Предъявителю сего в банке Жозефа Аренсаны, что на площади Сан-Сальвадор, безо всяких вопросов будет выплачено пятьдесят дублонов золотом. Старых дублонов.
Алатристе покосился на бумагу, не беря ее в руки. Так называемые «старые» дублоны весьма ценились в ту пору. Отчеканенные из золота высшей пробы лет сто назад, при блаженной памяти государях Изабелле и Фердинанде, отчего и назывались еще «двуспальными», они котировались выше всех прочих монет одного с ними достоинства, и Алатристе знал людей, которые за одну такую монетку согласились бы зарезать родную мать.
— По окончании всего дела, — прибавил Ольямедилья, — получите вшестеро больше.
— Приятно слышать.
Счетовод задумчиво рассматривал свой стакан, на поверхности которого, делая бесплодные попытки выбраться, плавала мошка, а потом, не переставая внимательно следить за погибающей, сказал:
— Флот прибывает через трое суток.
— Сколько людей потребуется?
— Вам лучше знать. Если верить генуэзцу, экипаж «Никлаасбергена» — человек двадцать с чем-то плюс шкипер и штурман. Кроме него, все — голландцы и фламандцы. Не исключено, что в Санлукаре возьмут на борт еще нескольких испанцев с грузом. А в нашем распоряжении — одна ночь.
— Значит, человек двенадцать-пятнадцать, — быстро прикинул в уме капитан. — Тех, кого я смогу подрядить за это золото, справятся…
Ольямедилья уклончиво повел плечом, давая понять: то, с чем должны будут справиться люди Алатристе, его не касается.
— Ваша команда должна быть готова накануне. Поплывете вниз по реке до Санлукара, с тем чтобы оказаться там под вечер… — Счетовод утопил подбородок в воротнике, словно соображая, не забыл ли чего. — Я отправлюсь с вами.
— Далеко ли?
— Видно будет.
Алатристе взглянул на него с нескрываемым удивлением:
— Едва ли там пойдет речь о бумаге и чернилах…
— Это не важно. Мне поручено оприходовать груз после того, как судно будет в наших руках, и доставить его по назначению.
Алатристе незаметно усмехнулся. Трудно было представить себе этого письмоводителя среди ухорезов и сорвиголов, которых он собирался подрядить на захват парусника, однако не возникало сомнений, что Ольямедилья ему не доверяет. При таком количестве золота искушение прибрать к рукам брусочек-другой слишком велико.
— Считаю нужным напомнить, — сказал счетовод, — что в случае неудачи вас ждет петля.
— А вас?
— А может, и меня.
— Вам вроде бы платят жалованье не за то, чтобы вы ходили на абордаж?
— Жалованье мне платят за то, чтобы я исполнял свои обязанности.
Мошка перестала барахтаться, но Ольямедилья не сводил с нее глаз. Наливая себе еще вина и поднося стакан ко рту, капитан заметил, что собеседник перевел взгляд на него и с интересом рассматривает два шрама у него на лбу и левую руку, стянутую полотняной тряпицей, под которой скрывался свежий ожог. И болел он, можно не сомневаться, чертовски. Потом счетовод насупился: казалось, ему не дает покоя некая мысль, но он не решается высказать ее вслух.
— Я вот все думаю… — произнес он наконец. — А что бы вы стали делать, если бы ваш поступок не произвел на генуэзца впечатления?
Алатристе посмотрел на улицу; сощурился на солнце, отражавшееся от беленой стены, отчего лицо его стало еще более непроницаемым. Перевел глаза на мошку, потонувшую в вине Ольямедильи, поднял свой стакан и ничего не ответил.
V. Вызов
Перед Аламедой в лунном сиянии вырисовывались так называемые «Геркулесовы столпы» высотой в две алебарды. А за ними — насколько глаз хватал — тянулись заросли вяза, и в сплетении ветвей тьма была еще гуще. В этот час здесь, между изгородями, водоемами и ручьями, уже не катились кареты с элегантными дамами, и не гарцевали, горяча коней, севильские кавалеры. Слышалось лишь журчание воды, и порой где-то вдалеке тревожно завывал на луну пес. Я остановился перед одной из этих могучих каменных колонн и прислушался, сдерживая дыхание. Во рту было так сухо, словно его хорошенько протерли песком, а кровь с такой силой стучала в висках и на запястьях, что казалось — вся она, до капельки, отхлынула от сердца. Вглядываясь во тьму, я выпростал из-под епанчи рукоять шпаги, вместе с кинжалом оттягивавшей книзу ременный пояс и тяжестью своей отчасти снимавшей тяжесть с души.
Потом оправил нагрудник из буйволовой кожи, который я с тысячью предосторожностей позаимствовал у капитана Алатристе, покуда он вместе с доном Франсиско де Кеведо и Себастьяном Копонсом ужинал, попивая вино и вспоминая Фландрию. Я же, сославшись на нездоровье, покинул сотрапезников, дабы привести в исполнение все задуманное в течение дня, а именно — тщательно вымылся, надел чистую рубаху, ибо не исключал возможности того, что по завершении дня какой-нибудь обрывок ее окажется в моем теле. Капитанов колет был мне велик, так что благообразия ради пришлось поддеть под него старую грубошерстную куртку, верно служившую мне в бытность мою мочилеро. Наряд мой завершали истертые замшевые штаны, пережившие осаду и взятие Бреды — они недурно защищали бедра от ударов клинка — шнурованные башмаки с гетрами и суконный берет на голове. Разглядывая свое отражение в одном из медных котелков, я пришел к выводу, что изготовился скорее к бою и походу, нежели к любовному свиданию. Однако живой уродец лучше мертвого красавчика.
Наружу я выбрался как можно более незаметно, скрыв шпагу и нагрудник под епанчей. Заметил меня один лишь дон Франсиско, который издали послал мне улыбку, продолжая оживленный разговор с Алатристе и Себастьяном, сидевшими, по счастью, спиной к двери. Оказавшись на улице, я оправил всю свою амуницию и направился к площади Св. Франциска, а оттуда, выбирая самые малолюдные улочки, выбрался к пустынной Аламеде.