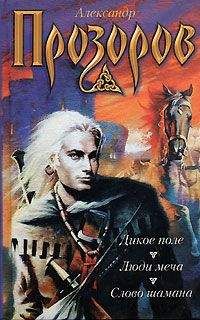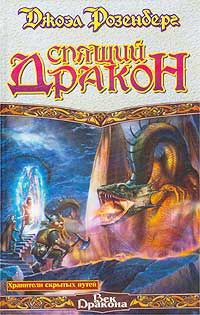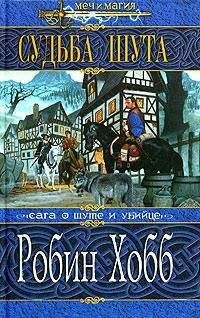Александр Бушков - Провинциал, о котором заговорил Париж
— Сударь, вы невежа, — сказал Атос, бесстрастностью тона лишь подчеркнувший оскорбление. — Сразу видно, что вы приехали издалека. У дворян столицы королевства нет и не может быть привычки ручаться за слуг. Ручаться за слугу? Фи! Где вы воспитывались?
— Откровенно говоря, я вовсе и не воспитывался, — сказал д'Артаньян. — Ну что вы хотите, господин Атос, от Тарба? Какого такого воспитания? Очень рад, что вы посвятили меня в тонкости столичного этикета. Что мне ответить на «невежу»? Ну, разве что… Я и в самом деле считаю вас большого ума человеком…
— Дьявольщина! — прорычал Портос. — Убьет его кто-нибудь наконец?
И он сделал движение, словно собирался выхватить шпагу.
— Вы еще не излечились от простуды, вынудившей вас носить плащ даже в нынешнюю жаркую погоду? — кротко спросил д'Артаньян.
Портос, издав нечленораздельный рык, на ладонь вытянул клинок из ножен, но де Тревиль резко приказал:
— Шпагу в ножны, Портос! Оставайтесь оба на месте. Теперь я полностью согласен с вами, что этого юношу, о котором неизвестно даже, кто он такой, следует хорошенько проучить… Но вы подумали, что будут говорить в Париже, если его проткнут здесь? У меня в кабинете? У меня в доме? Черт возьми, посмотрите на него! Все назовут моих мушкетеров детоубийцами…
— Те, кто видел меня в Менге, в деле с господином Портосом, вряд ли станут употреблять такое определение, — сказал д'Артаньян хладнокровно, чувствуя себя победителем в этой странноватой стычке.
— Извольте замолчать, сударь! — прикрикнул на него де Тревиль. — И будьте так любезны, покиньте немедленно мой дом, где ваше пребывание, согласитесь, является не вполне уместным… Господа мушкетеры не двинутся с места и уж, безусловно, не станут ввязываться в драку…
— Ну да, им не привыкать, — сказал д'Артаньян.
— Сударь, не вынуждайте меня кликнуть лакеев… — зловеще-тихо произнес де Тревиль. — Не знаю, что за игры вы ведете, но участвовать в них я не намерен. Если вам так уж приспичило быть убитым, пусть это произойдет где-нибудь в другом месте…
— Что ж, это вполне справедливо, — сказал д'Артаньян ему в тон и вежливейшим образом раскланялся со всеми тремя. — Примите мои уверения в совершеннейшем к вам почтении… и не сочтите за обременительный труд передать мое восхищение очаровательной белошвейке по имени Мари Мишон… Это касается вас, господин Атос… Впрочем, если мое поручение возьмется выполнить господин Портос, я не буду в претензии. Всего наилучшего!
— Минуту, любезный д'Артаньян, — сказал Атос. — Относите ли вы себя к поэтическим натурам?
— Простите?
— По вкусу ли вам изящная словесность?
— Черт возьми, да! — сказал д'Артаньян. — Особенно мне по душе «Декамерон» синьора Боккаччио, хоть он и написан не рифмами…
— Прекрасно, — сказал Атос. — В таком случае, душевно вас прошу, озаботьтесь в ближайшее же время отыскать в Париже какого-нибудь рифмоплета — их тут полно, берут недорого — и закажите ему красивую, прочувствованную эпитафию на собственную могилу. Разумеется, если считаете, что обычной эпитафии вам будет недостаточно. Только умоляю вас, не медлите…
— Когда мы встретимся с вами вновь, любезный Атос, — сказал д'Артаньян, кланяясь, — вы поймете, что вам самому следовало бы воспользоваться тем, что вы предложили мне… Честь имею, господа!
Он раскланялся и вышел, решив не испытывать далее судьбу. На сей раз он миновал приемную и двор гораздо быстрее, без дипломатических ужимок.
Лишь оказавшись на улице, он трезво подумал, что в одночасье нажил себе чересчур уж могущественных врагов, в то время как друзей поблизости по-прежнему не наблюдалось. Но гасконец ни о чем не сожалел, наоборот, был доволен собой, как только может быть доволен беарнский недоросль, богатый лишь бравадой и не научившийся по молодости лет беречься опасностей. Удручали его даже не внезапно нажитые враги, а то, что одна из дорог, по которой он намеревался было шагать к успеху и карьере, оказалась совершенно непроходимой…
Но разве эта дорога была единственной?
— Что же, — проворчал себе под нос д'Артаньян. — Самое время вспомнить какую-нибудь подходящую гасконскую пословицу. Что бы такое… Ну как же! «Если тебе не удалось напиться из озера, ступай к роднику»… Черт меня подери, самое оно!
Глава восьмая Капитан мушкетеров кардинала
Особняк на улице Сен-Оноре, где держал свою штаб-квартиру капитан мушкетеров кардинала Луи де Кавуа, во многом напоминал резиденцию де Тревиля — точно так же и обширный двор, и приемная были полны господ самого бретёрского вида, развлекавшихся шутливыми поединками и последними придворными сплетнями, среди которых главное место отводилось самой знаменитой любовной интриге королевства тогдашнего времени — недвусмысленным ухаживаниям за Анной Австрийской блестящего герцога Бекингэма, фаворита и первого министра английского короля. История эта столь широко распространилась по Франции, что д'Артаньян слышал кое о чем еще в Тарбе, — но здесь она обсуждалась с той смелостью, какой не могли себе позволить провинциалы. Господа гвардейцы без малейшего стеснения соглашались, что после известного свидания в амьенских садах его величество король, несомненно, стал обладателем того невидимого украшения на челе, что видно всякому, кроме его обладателя. Если и были какие-то частности, требовавшие дискуссий, то касались они вещей глубоко второстепенных — например, сколько всего раз королевский лоб оказался увенчан теми развесистыми отростками, что составляют неотъемлемую принадлежность четвероногого сподвижника св. Губерта… [3] Поскольку в ближайшие недели во Францию должно было прибыть английское посольство, дабы торжественно увезти на свой туманный остров предназначенную в жены королю Карлу Первому принцессу Генриетту Марию, сестру Людовика Тринадцатого, сходились на том, что глава означенного посольства, герцог Бекингэм, надо полагать, приложит все усилия, чтобы выполнить еще одну миссию, не обозначенную в верительных грамотах…
Впрочем, все, даже самые злоязычные, признавали, что нельзя очень уж строго судить молодую королеву — ведь известно, что его величество в некоторых вопросах является полной противоположностью своему славному отцу Генриху Наваррскому, обрекая молодую и пылкую испанку на унизительное целомудрие. Коли уж дошло до того, что его христианнейшее величество особым эдиктом запретил при дворе не только чересчур смелые вырезы платьев, но даже и наряды, чрезмерно обтягивающие фигуру, дабы, как он выражался, «не поощрять откровенных приглашений к сладострастию и избыточной вольности нравов»…