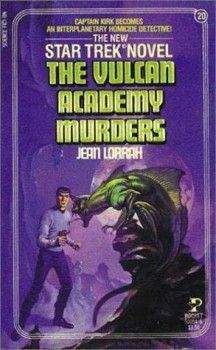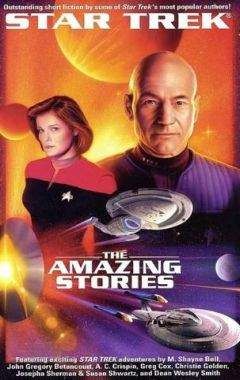Кафе на вулкане. Культурная жизнь Берлина между двумя войнами - Усканга Майнеке Франсиско
Фридрих Холлендер происходил из семьи музыкантов. Его отец сочинял музыку к опереттам, мать была певицей, а дядя – директором небезызвестной Консерватории Штерна. Еще ребенком Фридрих наигрывал на клавишах рояля в семейной гостиной, а в юные годы подрабатывал тапером, аккомпанируя немым кинолентам, большинство из которых впервые видел в момент выступления, а потому был вынужден импровизировать. Так у него обнаружился талант к взаимодействию с публикой. Он стал сочинять музыку, к которой сам писал слова.
В 1915 году Холлендера призвали в армию, однако, в отличие от Киша и благодаря хорошим связям отца, ему удалось сменить винтовку на дирижерскую палочку. Войну он прослужил дирижером духового оркестра, аккомпанировавшего военному театру. Увиденное на фронте потрясло его. С тех пор веселое в его музыке всегда сочеталось с серьезным. Холлендер сотрудничал с литературно-политическими кабаре, которые стали появляться в послевоенный период (легендарные Schall und Rauch и Größenwahn), и, прославившись вскоре как сочинитель популярных музыкальных ревю, не забывал вставлять в них элементы политической и социальной критики. В на первый взгляд фривольный «В нашем районе…» – так обычно о нем отзывались обозреватели – Холлендер включил два номера, в которых высмеивались прусская армия и ностальгия по системе правосудия имперского периода.
Холлендер обычно посещал «Романское кафе» в компании своей жены, актрисы и певицы Бландины Эбингер. Они познакомились в кабаре Schall und Rauch, и специально для нее Холлендер написал цикл Lieder eines traurigen Mädchens («Песни грустной девушки»). Они приходили днем и садились за столик, за которым встречались деятели кабаре и театра. Тон задавал Вальтер Меринг, в молодости дадаист, автор едких сатирических стихов и душа берлинского политического кабаре (его первый стихотворный сборник так и назывался: «Политическое кабаре»). Помимо них, завсегдатаями этого столика были уже знакомая нам Валеска Герт, журналист и критик Георг Цивьер, позже написавший историю кабаре, а также актриса Карола Неер и ее муж Клабунд, называвший себя бродячим поэтом. Часы шли, и стол обычно превращался в штаб, где строились планы, вспыхивали споры, а временами – к возмущению преподавателей живописи – даже разыгрывались сцены.
В кафе это был не единственный стол, за которым громко обсуждались театр и кабаре. На разумном расстоянии в «бассейне для не умеющих плавать» сидел Бертольт Брехт, окруженный своей «партией». Брехт был одним из enfants terribles [14]культурной сцены Берлина. Как и многие другие ее представители, он не был берлинцем. Брехт родился в Аугсбурге, колыбели банковского дома Фуггеров, тихом провинциальном городе, полном барочных зданий и увенчанных маковками церквей.
Тут я сделаю отступление, которое может быть интересно читателю. Аугсбург находится в Швабии, области на юге Германии, расположенной на территории современных Западной Баварии и Баден-Вюртемберга. В свое время у Брехта не возникало проблем, связанных с этническим происхождением, однако в наше время быть швабом в Берлине нелегко. К примеру, в районе Пренцлауэр-Берг можно наткнуться на весьма недвусмысленные надписи. Некоторые из них агрессивны: «Смерть швабам». Другие – пошлы и безвкусны: «Не покупайте там, где швабы». Недавно я видел на Гельмгольцплац, одной из районных площадей, уже почти в районе Панков, плакат, который гласил: «Швабы в Пренцлауэр-Берге: мелкотравчатые бюргеры, маниакально следящие за соседями, совершенно не чувствующие берлинской культуры. Что вы здесь забыли?» Во время другой прогулки по окрестностям Пренцлауэр-аллеи мое внимание привлекли аббревиатуры, которыми, словно граффити, были исписаны стены: TSH. Один из соседей объяснил, что это значит Totaler Schwaben Hass, то есть «тотальная ненависть к швабам».
Эта проблема не нова. По сути дела, своего апогея она достигла в 2013 году, когда Вольфганг Тирзе, в то время председатель Бундестага, заявил одной из берлинских газет:
Швабы должны научиться говорить Schrippe (слово на берлинском диалекте, обозначающее «булочка», на швабском же – Weckle или Semmel) и уяснить раз и навсегда, что Берлин – не провинциальный город, где можно заставить соседей по расписанию подметать лестницу в подъезде.
Разразился скандал. Тирзе получил более трех тысяч возмущенных сообщений, попросил прощения и сквозь зубы произнес одну из тех фраз, которые говорят политики, когда вынуждены брать свои слова обратно: «Мы всегда рады швабам».
У этой антипатии есть разные причины. Первая – экономическая. Но не из страха, как это обычно бывает, что расходы по содержанию иммигрантов постоянной ношей лягут на город. Швабов, иммигрантов с высокой покупательской способностью, обвиняют в том, что из-за них происходит так называемая джентрификация с последующим повышением цен на аренду жилья. Вторая причина связана с тем, что швабы – сквалыги, любители порядка и чистоты, и предпочитают всему и вся навязывать расписания и правила, а это не сочетается с альтернативно-анархистской средой района Пренцлауэр-Берг. Третья причина такого отторжения – а в этом случае скорее глумления – в том, что швабы говорят на диалекте, который для берлинского уха звучит странно, а временами и сложно для понимания. И, наконец, потому что их много. После падения Берлинской стены в 1989 году произошел настоящий исход швабов, которые искали работу в модной столице. Примеру последовали многие, и сейчас швабское землячество в Берлине – второе по численности после турецкого.
Складывается впечатление, что сейчас ситуация немного успокоилась, хотя Schwabenhass – ненависть к швабам – существует до сих пор. Возможно, проблема исчезнет, стоит швабам частично перенять анархизм жителей Пренцлауэр-Берга, а тем, наоборот, вспомнить, что именно шваб, Бертольт Брехт, был одним из художников, который наилучшим образом смог уловить и увековечить берлинскую культуру. Потому что, по словам Хайнера Мюллера, еще одного драматурга, переехавшего в Берлин, «таланты рождаются в провинции, а не в мегаполисах».
Перед тем как обосноваться в Берлине, Брехт несколько лет прожил в Мюнхене – привычный маршрут для молодежи из состоятельных аугсбургских семей, поступающей в университет. Но уже в те годы Брехт чувствовал, что его влечет столица; и действительно, в его первой пьесе, премьера которой состоялась в Мюнхене, «Барабаны в ночи» (1922), идет речь о спартаковском движении в послевоенном Берлине. Действие второй, «В джунглях городов» (1923), сложной истории любви и ненависти между работодателем и подчиненным, происходит в Чикаго, городе, в котором Брехт никогда не бывал, но который, безусловно, гораздо более походит на Берлин, чем на Мюнхен (в те времена Берлин нередко называли «Чикаго-на-Шпрее»).
Как только подворачивалась такая возможность, Брехт сбегал в столицу. С каждым разом задерживаясь в ней все дольше. Он испытывал нужду, но научился выживать и наслаждаться городом: «Кругом ужасающая безвкусица, но в каком впечатляющем виде!».
Брехт бродил по Берлину с гитарой на плече, играл баллады в трущобах и на утренних спектаклях, переезжал из пансиона в пансион – в подавляющем большинстве случаев в компании новой возлюбленной – и имел дело с людьми, которых описывал следующим образом: «Они наносят друг другу удары в спину, проклинают и презирают друг друга, завидуют один другому». Некоторых из них он встречал в «Романском кафе», где проводил послеобеденное время. Это было еще в те времена, когда Фиринг, владелец кафе, разрешал клиентам проводить час за часом за одной-единственной чашечкой кофе, и даже за стаканом воды, занимаясь написанием текстов или читая бесплатную прессу.
В «Романском кафе» Брехт обычно сидел за столиком с парой близких друзей. Один из них, Герберт Иеринг, влиятельный критик Berliner Börsen-Courier, был одним из его главных почитателей. Когда в 1922 году состоялась премьера «Барабанов в ночи», Иеринг написал, что этой пьесой Брехт «в одночасье изменил облик Германии». Еще одним участником кружка был Арнольт Броннен, эксцентричный писатель, о котором еще пойдет речь далее. Они были неразлучными друзьями, и именно его перу принадлежит словесный портрет Брехта того периода: