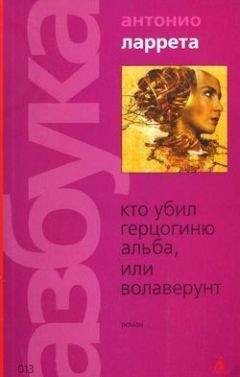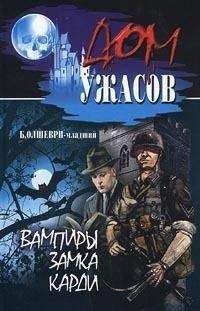Том Шервуд - Мастер Альба
– Тебе не нравится твоё новое имя? – поинтересовался монах. – Но ты не можешь отрицать, что подобрано оно точно. Ты не кто иной под этим небом сегодня, как злой отец искалеченных псов. Я же – тот, кто пришёл поговорить с тобой о пропадающих заключённых. Сядь. От разговора зависит остаток твоей тёмной жизни.
– Какие пропадающие заключённые? – “папа”, недобро оскалившись, сел на стул у окна.
– Которых ты время от времени забираешь из острожных подвалов в Лонстоне.
– Ну и что?! Да, забираю! У меня есть патент от военного флота!
– Я так и предполагал. Но я не пришёл бы сюда, если бы сам доподлинно не проверил, что ни в одно адмиралтейство ни одного порта Британии ты не прислал ни одного моряка. Ни приговорённого к каторге, ни вольного рекрута. А скольких ты взял из острога? Можешь не говорить, всё равно скажешь неправду. Где-то здесь, в твоём кабинете, вместе с деньгами обязательно лежат реестры продаж и покупок. Вот из них я и узнаю точные цифры. Пока я всего лишь предполагаю, что за последние неполных два года привезено сюда, в твоё родовое поместье, около тридцати человек. Вот тут, в сущности, и возникает тот единственный, главный вопрос, ради которого я и прибыл сюда: где эти люди?
Заводчик собак сидел неподвижно, уставив ненавидящие глаза на проклятого маленького монаха, который пришёл неизвестно откуда и, смотрите-ка, – рушит такую размеренную, такую прекрасную жизнь! Время от времени – было видно – он порывался что-то сказать, но усилием воли, или под гнётом растерянности, каждый раз себя останавливал. В помещении с высокими окнами повисло тягостное молчание. Наконец, в уме своём “папа” выстроил, на его взгляд, правильный, нужный ответ и довольно спокойно заговорил:
– Я так понимаю, что прокурорского предписания на следствие или обыск у тебя нет.
– Нет, – подтвердил Альба совершенно спокойно.
– Тогда скажи, кто интересуется моими делами – частное лицо или Британское королевство?
– Частное лицо.
– Лично ты или кто-то пославший тебя?
– Лично я.
Пёсий папа откинулся всем своим толстым телом на спинку затрещавшего стула и, меняя злость на лице на кривую улыбку, проговорил, выставив палец:
– Я так и знал, что ты – услыхавший случайную сплетню нищий монах-шантажист. Что тебе нужно? Денег? Скажи, сколько. Я, может быть, дам.
– Ты не понимаешь. Единственное, что мне нужно, – это ответ на короткий вопрос: где эти люди?
“Папа” вздохнул, удручённо потряс колпаком. Сказал скорбно:
– Ты, монах, что хочешь думай, но о чём ты толкуешь – я в ум не возьму. Надо денег? Я дам тебе денег. Просто так, из милосердия. Я даже забуду все те гнусные подозрения, которые ты мне здесь только что предъявил.
– А свои гнусные дела – ты тоже забудешь? Ты вырастил породу крупных собак. Ты продаёшь их рабовладельцам, на юг, на плантации. А перед этим обучаешь их охотиться на живых людей, используя купленных в Лонстоне заключённых. Всё это ты тоже забудешь?
Видно было, как “папа” вспотел. Он с усилием сглотнул, оттянул воротник. Но собрался с мыслями и, придав лицу выражение спокойное и безучастное, ответил:
– Ты, монах, просто сказочник. Я думал, что из вас двоих – один только головой болен. А оказывается – что оба! Какие рабы? Какие крупные псы? Я развожу далматинов!..
– Бу-у-у! – напоминая вдруг о себе, потянулся к нему со слюнявой улыбкой Бэнсон.
– Э-эй! – испуганно скрипнул стулом толстяк. – Эй, монах! Убери его от меня! Идиот! Костолом!
– Да он добрый, – ухватился за Бэнсонову цепь Альба. – Он только, по-моему, проголодался.
– Так накормим, накормим! – замахал руками хозяин. И громко крикнул: – Эй, кто там есть?
За дверью раздались шаги, кто-то открыл её, всунул голову. “Не привратник и не тот, которого я помял, обнимая”, – отметил про себя умело актёрствующий Бэнсон. А хозяин заглянувшему приказал:
– Отведи костолома на кухню! Накорми хорошенько!
– Иди, иди, дорогой, – показал жестами Альба, – там будет покушать.
Бэнсон, склонив в дверях топор с крестом, вышел за поманившим его человеком и потопал, демонстративно облизываясь, по гулкому коридору. Дверь осталась открытой, и он успел услышать ещё две фразы – “на дальнюю кухню!” (это его провожатому – тот, спеша впереди дурачка-костолома, согласно мотнул головой) и – “хочешь – ступай, обыщи всё поместье! Нет у меня крупных псов!” (это, конечно же, Альбе).
Коридор увёл их куда-то вниз и незаметно сменился подземной каменной галереей. Дошли до узкого маленького проёма без дверей, и провожатый, посторонившись, пропустил Бэнсона вперёд, крича ему и показывая:
– Здесь низко! Голову не ударь! Пригнуться нужно, пригнуться!
Впереди, за проёмом – было видно – путь преграждала каменная стена, но пространство перед ней заливал неяркий солнечный свет, и Бэнсон, решив, что дальше будет поворот во двор, перехватил древко топора поудобнее и полез вперёд. Миновав проём, он распрямился – и понял, что нет здесь ни выхода, ни поворота. Свет же падал сверху, где вместо крыши виднелась массивная, из толстых прутьев, решётка. О том, что это ловушка, он догадался ещё до того, как за его спиной послышался глухой металлический лязг. Именно поэтому он спас для себя необходимую секунду – ту, чтобы не растеряться и не выдать себя. Повернувшись назад, он схватился за перекрывшие проём железные прутья и обиженно протянул своё “бу-у!”
– Вот так, костолом! – злорадно проговорил провожатый, отпуская торчащий из стены рычажок. – Посиди здесь, пока мы разберёмся с монахом. Тебя потом к собачкам отправим.
И убежал.
Бэнсон торопливо ощупал стены, пол и решётку. Сердце его колотилось, как сумасшедшее. В голове металась страшная мысль: “Альба остался один! Альба не знает!”
До решётки вверху – не допрыгнуть. Бэнсон быстро смотал с себя цепь, разъял лапы “кошки” – и с отчаянием сказал сам себе: “Ну зацеплю, ну долезу, – дальше то что?”
Вдруг в коридоре послышались медленные шаги – пока ещё отдалённые. Мысли мелькали, как огненные искры. Он намотал цепь на себя, сел у решётки и вывернул клапан на поясе. Вытащил несколько монет, стараясь, чтобы были преимущественно золотые. Разложил их перед собой, стал со звоном бросать то в ладонь, то с ладони.
В коридоре показался неторопко бредущий владелец дубовой палки. Эта палка была снова при нём, а вторую руку он прижимал, болезненно морщась, к рёбрам, и глаза его были недобрыми.
– Не соврали, сидишь! – тихо и радостно прошипел он, приблизившись. – Ну что, сало собачье…
Тут взгляд его пал на монеты, и выражение лица мгновенно переменилось.
– Хороший, хороший, – промямлил он, словно младенцу. – Дай их мне! Сюда! Брось!