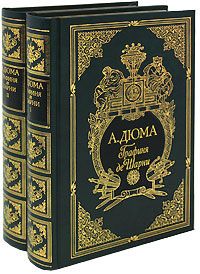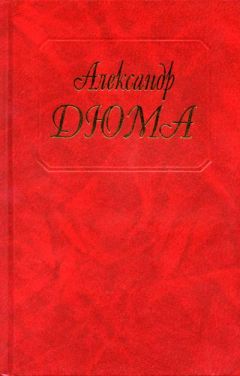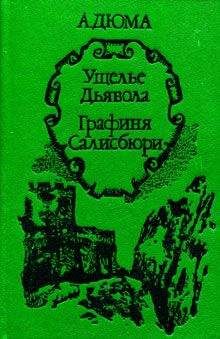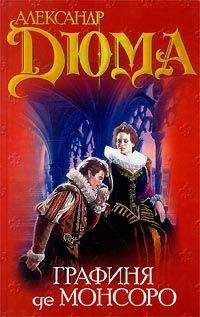Александр Дюма - Графиня де Шарни. Том 2
— Это невозможно, — отвечал один из них, — но если пожелаете, ваших родных приведут сюда.
— Хорошо, — кивнул король, — лишь бы я мог принять их в своей комнате без помех и без свидетелей.
— Не в вашей комнате, — возразил тот же член муниципалитета, — а в столовой; мы только что так условились с министром юстиции.
— Но вы же слышали, — заметил король, — что декрет коммуны позволяет мне увидеться с семьей без свидетелей.
— Это верно; вы увидитесь наедине: дверь будет заперта; но мы будем присматривать за вами через витраж.
— Хорошо, пусть будет так.
Члены муниципалитета удалились, и король прошел в столовую; Клери последовал за ним и стал отодвигать стол и стулья, чтобы освободить побольше места.
— Клери, — промолвил король, — принесите немного воды и стакан на тот случай, если королева захочет пить, На столе стоял графин с ледяной водой, в пристрастии к которой короля упрекнул один из членов коммуны; Клери принес только стакан.
— Подайте обычной воды, Клери, — попросил король, — если королева выпьет ледяной воды, с непривычки она может захворать… И вот еще что, Клери: попросите господина де Фирмонта не выходить из моего кабинета: я боюсь, как бы при виде священника мои близкие не всполошились.
В половине девятого дверь распахнулась. Первой вошла королева, ведя за руку сына; наследная принцесса и принцесса Елизавета следовали за ней.
Король протянул руки; все четверо со слезами бросились к нему.
Клери вышел и прикрыл дверь.
Несколько минут стояло гробовое молчание, нарушаемое лишь рыданиями; потом королева потянула короля за собой в его комнату.
— Нет, — возразил, удерживая ее, король, — я могу видеться с вами только здесь.
Королева и члены королевской семьи слышали через разносчиков газет о приговоре, но они не знали никаких подробностей процесса; король обо всем им поведал, извиняя осудивших его людей и заметив королеве, что ни Петион, ни Манюэль не требовали казни.
Королева слушала, и всякий раз, как она хотела заговорить, ее душили слезы.
Господь послал несчастному узнику утешение: в его последние часы он был обласкан любовью всех, кто его окружал, даже любовью королевы.
Как уже могли заметить читатели в романической части этой книги, королева с удовольствием отдавалась радостям земным; она обладала живым воображением, которое в гораздо большей степени, нежели темперамент, заставляет женщин забывать об осмотрительности; королева всю свою жизнь совершала необдуманные поступки; она была неосмотрительной в дружбе, она была неосмотрительной в любви. Пленение вернуло ее к чистым и святым семейным узам, которые она нарушала в дни своей бурной юности. Так как она все умела делать только страстно, она в конце концов страстно полюбила в несчастье и этого короля, этого супруга, в котором в дни процветания видела лишь вульгарного толстяка; в Варение, а также 10 августа Людовик XVI показался ей человеком бессильным, нерешительным, преждевременно отяжелевшим, да чуть ли не трусом; в Тампле она начала подмечать, что ошибалась в нем не только как женщина, но и как королева; в Тампле она увидела, что он умеет быть спокойным, терпеливо сносящим оскорбления, кротким и стойким, как Христос; все, что в ней было от высокомерной светской дамы, улетучилось, растаяло, уступило место добрым чувствам. Если раньше она чрезмерно презирала, то теперь сверх меры любила. «Увы! — сказал король г-ну де Фирмонту. — Зачем я так сильно люблю и столь нежно любим?!»
Вот почему во время этой последней встречи королева испытывала нечто вроде угрызений совести. Она хотела увести короля в его комнату, чтобы хоть мгновение побыть с ним наедине; когда она поняла, что это невозможно, она увлекла короля к окну.
Там она, без сомнения, опустилась бы перед ним на колени и со слезами испросила бы у него прощения: король все понял, удержал ее и вынул из кармана свое завещание.
— Прочтите это, моя возлюбленная супруга! — попросил он.
Он указал ей один из абзацев, который королева стала читать вполголоса:
«Прошу мою супругу простить мне все зло, которое она терпит по моей вине, а также огорчения, которые я мог ей причинить на протяжении нашей совместной жизни, как и она может быть уверена в том, что я нисколько на нее не сержусь. Даже если она в чем-либо когда-либо сама себя упрекала».
Мария-Антуанетта взяла руки короля в свои и прижалась к ним губами; в этой фразе «как и она может быть уверена в том, что я нисколько на нее не сержусь» заключалось милосердное прощение, а в словах: «даже если она в чем-либо когда-либо сама себя упрекала» — необычайная деликатность.
Благодаря этому она умрет с миром в душе, несчастная Магдалина королевской крови; за свою любовь к королю, хоть и запоздалую, она была вознаграждена Божеским и человеческим милосердием, и ей было даровано прощение не только в интимном разговоре, тайно, словно подачка, которой устыдился бы сам король, но во весь голос, публично!
Она это почувствовала; она поняла, что с этой минуты стала неуязвима перед лицом истории; однако она ощутила себя еще более беззащитной перед тем, кого она любила слишком запоздало, чувствуя, что всю жизнь его недооценивала. Несчастная женщина не могла говорить, из груди ее рвались рыдания, крики; она с трудом говорила, что хотела бы умереть вместе со своим супругом и что если ей откажут в этой милости, она уморит себя голодом.
Члены муниципалитета, наблюдавшие за этой сценой через застекленную дверь, не могли сдержаться: сначала они отвели глаза, потом, ничего не видя, но продолжая слышать душераздирающие стоны, дали волю своим чувствам и зарыдали.
Предсмертное прощание длилось около двух часов, наконец, в четверть одиннадцатого король поднялся первым; тогда жена, сестра, дети повисли на нем, как яблоки на яблоне: король с королевой держали дофина за одну руку; наследная принцесса, стоя по левую руку от отца, обхватила его за талию; принцесса Елизавета с той же стороны, что и ее племянница, но чуть сзади, вцепилась королю в плечо; королева — а именно она более других имела право на утешение, потому что была самой грешной, — обхватила мужа за шею, и вся эта скорбная группа медленно продвигалась к двери со стонами, рыданиями, криками, среди которых слышалось только:
— Мы увидимся, правда?
— Да… Да.., не беспокойтесь!
— Завтра утром.., завтра утром, в восемь часов?
— Я вам обещаю…
— А почему не в семь? — спросила королева, — Ну, хорошо, в семь, — согласился король, — а теперь.., прощайте! Прощайте!
Он так произнес это «прощайте!», что все почувствовали, что он боится, как бы ему не изменило мужество.