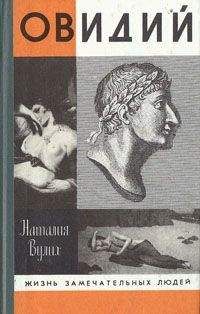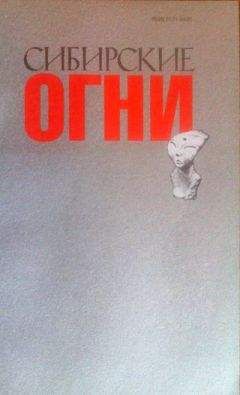Александр Зорич - Римская звезда
А совесть? Да, на твоей стороне сама ясноокая Венера. Но остальные-то боги – на стороне супротивной!
И еще вот что. Ты знаешь: не закончится это, не прекратится усилием твоей воли. Это как пьеса в театре – сюжет должен быть отыгран до конца, глупцы – посрамлены, виновные – наказаны, благородные увенчаны. И не прервать тебе представления, потому что зрители собрались, потому что представление вообще невозможно прервать, хоть благим матом ори. Остается только таиться и лгать, лгать, лгать. Ради того, чтобы еще раз взвесить на мизинце ее льняной локон.
О том говорил и Барбий.
А ведь кроме любви была у него еще и рабская его гладиаторская лямка! Крохотная комнатушка в казарме – величиной с клетку для пантеры – упражнения до седьмого пота, гастроли. Фортуна тоже положила глаз на Барбия и хотела сделать его не звездой – звездищей арены.
Но если бы только это.
– Когда мы впервые с Терциллой это самое… у них на вилле двое рабов ночью умерли, вроде как несвежей рыбой отравились. Мы тогда значение этому не придали. Но потом я назначил ей встречу в городе, каморку в одной инсуле снял, недалеко от нашей школы. Пришла Терцилла моя, я вина купил, закусок, цветов, украсил все – честь по чести. Устроили мы там с ней форменные острова блаженных! Хвала богам, Фурий как раз поехал за город, тетку навещать, и Терцилла почитай до утра со мной оставалась. Сколько буду жить – той ночи не забуду, друг! А утром раненько, затемно еще, я к своим засобирался, да и она со мной выскользнула. И как только мы из дому вышли, дом этот…
– Обвалился? – подсказал я.
– Ну вот! Опять ты перебиваешь! – лицо у Барбия стало багровым, гневным, будто это я лично уронил разнесчастную инсулу. – Да, взял и обвалился! Представь себе! И кучу людей угробил, спали ведь еще! Так и повелось. Где мы ни встреться – там несчастье. Сняли халупу у одной ткачихи, на окраине, так не успели мы с хозяйкой за постой расплатиться, как ее сынишку конь копытом насмерть зашиб, когда тот денник чистил. Однажды встретились на опушке леса, от людей подальше, от греха. Миловались от души – два месяца не виделись, ну, ты понимаешь… Думали, на этот раз сойдет без происшествий. Вышли на дорогу проселочную, мятые-перемятые, но радостные такие, спокойные! А навстречу нам, из деревни, старик ковыляет. Лицо перекошено, клюкой машет. «Слышали, – говорит, – только что волк девушку зарезал! Средь бела дня!»
– Плохи дела.
– И не говори… В такой-то компании нам уже и Фурий не страшен был. То есть страшен, но не так, чтобы ядом травиться. Прознал стервец про наши плутни, начал девочку мою поедом есть. Грозился отцу рассказать. Пугал, что оставит без наследства. По полу катался, орал. Терцилла все это мне рассказывала, а мне только в задницу Фурия трахнуть хотелось. Рукоятью гладиуса. Я так думаю, у него были какие-то мужские к ней претензии, к моей Терцилле. Иначе с чего бы это ему так ее девственность блюсти? А со мной гаденыш держался ровно, как будто ничего не происходит. Зайдет к нам с Зеноном, башкой своей ухоженной покрутит, дурость какую-нибудь блякнет, про искусство. И вежливенько так – к себе, как небожитель какой… Просто два разных человека! Что ты на меня смотришь так, друг? Вот скажи, скажи-ка, что мне было делать? Убить Фурия этого? Можно подумать, они Терциллу замуж за меня отдали бы! Ни в жисть! Вскоре начали мы о побеге думать всерьез. Решили в Карфаген урвать. Правда, одна мысль меня страшила – как бы кораблик наш вместе мореходами не того, в самом синем море… Но все равно – мечтали, я даже раба-пунийца купил. А Терцилла деньги принялась втихаря откладывать. Я тоже делишки принялся сворачивать, чтобы, когда срок придет, школу свою родную послать к цезаревой матери.
– Я думал, это сложно – уйти из гладиаторской школы.
– Смотря кому. Если ты – номер один, не очень сложно. Деньги в кассу – и краями! Ланисте тебя особого резону держать уже нет – знает он, что ты от славы и денег обленивел, да и публике поднадоел. Герои тоже приедаются, как бобы с подливой. Словом, из казармы я не выходил, деловой весь! Однажды так закрутился, что там и Терцилле встречу назначил, в каморке сторожа, который тварей для звериной травли стерег. К тому моменту я уже в авторитете был, все мне было можно… Ничего у нас с ней тогда не было, целовались разве только. Потом проводил я ее, как положено – слуг-то она с собой не брала никогда. А когда я вернулся… В общем, пожар у нас в школе случился. Шестнадцать человек сгорели заживо. Искали причины, да ничего не нашли. Будто сам Юпитер перун метнул – прямо в казарму. Гадали-гадали, виноватых ловили, распяли даже кого-то, для порядку. Но я-то знал, что всему виной… ну… мы с Терциллой.
– Может, всему виной Юпитер? – предположил я. – Ведь это он перун метнул!
– Но ведь гневался-то он на нас ! Терцилла моя была вне себя. Я такой ее не видел никогда, в конвульсиях билась. Рыдала так жалостливо, остановиться не могла, с лица спала. Из-за меня, говорит, из-за срамницы, погибли мои любимые бойцы! И Ликург Золотые Зубы, и Базилевс Галльский… В общем, по именам назвала покойников, и правда хорошие были рубаки, хотя большинство все равно шваль… Терцилла-то страстной поклонницей ремесла нашего была. Всех знала, Марсу каждый месяц жертвы, все как положено. В общем, кричала, металась – как одержимая! И ни за что успокаиваться не хотела! Сорок дней никого не принимала. Говорили, постилась, ездила на богомолье. Но потом мы все-таки встретились. И вот тут, друг, самое ужасное тебе поведаю. Сказала мне Терцилла, что знает наверняка: воля богов такая, что встречаться нам нельзя. И жить вместе нельзя. И любовью заниматься, понятное дело, тоже. Потому что проклятие. И что она именем богов клянется более никогда со мной не встречаться. Поклялась. И меня поклясться заставила.
– Что, вообще никогда-никогда не встречаться? – переспросил я ошарашенно.
– Да. Она сказала: пока какой-либо из богов сам лично ей не укажет, что с гладиатором Барбием ей жить надобно, она ко мне и на сто стадиев не подойдет!
– А ты?
– А что я? Ты думаешь, каково было мне в Капуе жить? Ноги сами к ее дому несли! Думал, свихнусь вообще. А тут еще этот Геркулес…
– Геркулес?
– Ах да, забыл сказать! Вскорости Зенон статую закончил. По этому случаю папаша Клодий соизволил приехать из Города. Цветов в дом нанесли, яств настряпали, одних благовоний столько извели, что потом отхожие места месяц чистым сандалом воняли! Терцилла, правда, к гостям не спустилась – притворилась больной. А Фурий очень даже вышел – волосы завитые, щеки нарумяненные, одежды тончайшие. Ходит, на кифаре бренчит. А гости вокруг статуи стоят, прихлебатели да параситы, и только знай нахваливают. «Гениально!», «опупительно!», «калокагатейно!»