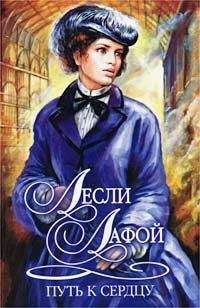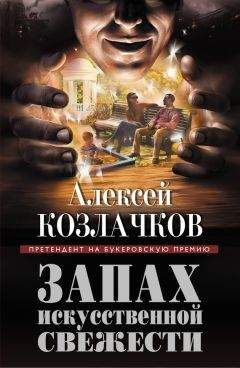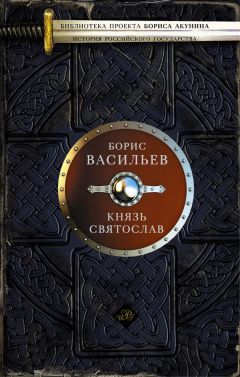Борис Изюмский - Град за лукоморьем
Половецкий стан – разборные кибитки, двухколесные повозки с детьми, кумысными бурдюками, медными котлами, походные идолы с чашами у пояса, стада овец, быков, конские табуны – раскинулся на тысячи саженей у кургана «Орлова могила». Казалось, рядом с Сурожским морем разлилось море половецкое – стойбище юрт.
Потрескивали кизяки в кострах. Подламывая ноги, медлительно опускались на землю верблюды, словно облепленные рыжевато-серым войлоком. Тонко ржали жеребята. В стороне от задымленных юрт с их потертыми коврами высился шелковый шатер малого кагана Узембе, охраняемый воинами с серебряными копьями. К железным приколам, вбитым в землю, привязаны оседланные кони Узембе.
Сам каган – скуластый, низколобый, лет тридцати – в малиновом шелковом халате, шароварах, сапогах с загнутыми вверх носами сидел, поджав под себя ноги, посреди шатра, слушал военачальника Амурату.
У Амураты круглые нагрудные бляхи, серебристые нашивки на рукавах длиннополого кафтана. Невысокий, с бронзовым лицом, на котором буравчики глаз просверлили узкие щели, Амурата говорил отрывисто, как команду давал.
– Лазутчики проведали… Тмутаракань оборонять могут тысяч пятнадцать… Урус доверчив, беспечен… Пустим ввечеру лживую валку из переодетых… Они войдут в град… Резню начнут… Тут мы и подоспеем…
Узембе думает: «Хитер… может, когда и меня прикончит». Они, правда, в знак побратимства пили недавно кровь из пальца друг друга… Да ведь власть сильнее крови.
Узембе соглашается:
– Посылай валку… Самых бесстрашных подбери, кто по-ихнему говорит…
Амурата, низко склонив колпак, отороченный лисьим мехом, выскользнул из шатра.
В стане веселье: под звуки дудок пьют кумыс, раку, достав из-под седла куски вяленого мяса, пропитанного конским потом, рвут его крепкими зубами. Такие любому перегрызут горло.
Вон отважный воин Аела, в легком плаще, под которым видны плеть и аркан. Отрезав ножом ломоть мяса от убитого коня, Аела надкусил лакомство, а лучшую часть его поднес своей невесте Багельме.
У нее узорчатый кафтан, шаровары заправлены в сапожки. Из-под огромной шапки с меховой опушкой и желтым широким верхом выскользнули на спину две толстые черные косы, нарумяненное лицо засияло от удовольствия.
– Аела! – тихо позвал Амурата.
Воин подбежал.
У него кривые сильные ноги всадника, маленькие острые уши торчком. В колчане – стрелы с орлиным опереньем, на поясе – кресало, два длинных ножа и кожаный мешочек с сушеной кровью рыси.
Аела с готовностью уставился на Амурату: только слово вымолви – вскочит на большеголового, с коротким хвостом и курчавой густой гривой коня мышиного цвета, помчится, куда велит, убьет, кого велит. Аела налит силой, она чувствуется в плечах, шее, упругих руках.
И конь у Аелы такой же лютый, как хозяин, – грызет противника, бьет его копытами.
– Ты по-урусски… говоришь? – спрашивает Амурата.
Аела озадачен:
– Мал-мала…
– Пойдем ко мне… в шатер. Отличишься – награжу…
Ивашка повидал сестру, передал ей киевские гостинцы – ленты, кусок льняной ткани, цветной платок. И особо – горсть земли, взятой в их дворе. Анна долго плакала, узнав о смерти Лисаветы и Марфы. Все расспрашивала о тетке Марье, о Фросе… Сказала печально:
– А батечко так и нет…
– Ну а ты здесь как?
– Притерпелась, – не глядя на Ивашку, ответила Анна. Не хотела расстраивать брата рассказами о надругательствах Настаськи, ее неуемной злобе.
– Глеб-то помогал?
Анна подняла на брата лучистые, не умеющие лгать глаза:
– Он славный…
Она краснела так же, как брат, до корней волос. Ивашка подумал: «Ну то и ладно».
А Глеб и впрямь не только заботился, но и баловал, как мог, Анну. То приносил ей ожерелье из розового, прозрачного сердолика, найденного на берегу, то мидий, собранных на прибрежных скалах. Девушка, соскоблив водоросли, открывала ножом створки, извлекала мидии и жарила их с луком.
А то как-то на восходе солнца набрал Глеб у песчаной отмели греющихся крабов, и Анна, сварив их в морской воде, с наслаждением обсасывала клешни.
Попрощавшись с сестрой, Ивашка пошел в мастерскую Калистрата.
Стояла жарынь. В солнце будто вбил кто-то черные гвозди. Но вдруг с моря набросился на город смерч. Пыльный столб завихрил, прошел по Сурожской улице, срывая крыши, и умчался. Только в небе теперь засветили на какой-то миг три солнца, а потом сошлись в одно.
Ивашка, укрывшийся во рву от смерча, добрался до мастерской.
Калистрат был доволен им: все привез, как надо, ничего не утаил, сдачу отдал.
Сказал твердо:
– Реместву обучу… Умельство передам…
А Глеб был счастлив, что друг возвратился жив и здоров и даже привез ему огниво. До позднего вечера расспрашивал Ивашку о Залозном шляхе, о Киеве…
Ночью они услышали со стороны Золотых ворот какие-то крики, вой собак, по улице бежал человек с факелом, кричал:
– Половцы! Половцы!
Ивашка ухватил толстую палку, Глеб – железный прут, и они побежали к Золотым воротам.
Там все уже закончилось, на земле валялись побитые половцы и несколько стражников. Народ толпился вокруг распряженных мажар. Пожилой стражник рассказывал:
– Валка подъехала к вратам… Ктой-то кричит по-нашему: «Пустить! Половцы за нами гонятся!.. Из Чернигова мы… Пустить, в городе пошлину заплатим». Наш-то Сидор ворота открывать… Стали они въезжать. А Сидор разглядел: на дне одного воза половец притаился. Сидор в крик: «Лазутчики!» Те, что за воротами остались, повскакивали с мажар. Наши едва отбились, задвинули засовы ворот, опустили решетку. А кого впустили, уже здесь прикончили.
Ивашка подошел к одному из убитых. На земле лежал немногим старше его половец с маленькими острыми ушами торчком. Словно припал к земле, прислушиваясь к подоспевающему конскому топоту. Белок глаза узкой полоской уставился в небо.
«Небось у него тоже своя Сбыслава есть, – подумал Ивашка, – так ему, вражине, нас губить надо».
На рассвете половцы стали рушить, жечь предградье, и над ним встала дымная заря.
До этого на дальних подступах к Тмутаракани они уничтожили виноградники, превратили пашни в выпасы, разгромили поселение хозар, их заставы.
Теперь в самом подоле все предавали огню и мечу, перебили старых, оковали в полон остальных, разграбили церкви. Кощунствуя, гадили, осквернили родительскую землю – кладбище, превратили в конюшню монастырь, надругались над святынями.
В Тмутаракани за стенами началось смятение. Купец с выпяченными от страха рачьими глазами предлагал вынести половцам мед с рыбой. Его избили до бесчувствия, кричали гневно: «Шелудивых убоялся!» Еще до подхода главных сил половцев, кто побогаче, на плотах и ладьях перебрался в Корчев через пролив. Многие в сумятице потонули. Цены на хлеб повысились втрое; купцы лживили, что погибли их валки, потому и вздорожанье. На торжищах внутри города то там, то здесь возникали бурливые веча. Подступая к Детинцу, народ кричал: