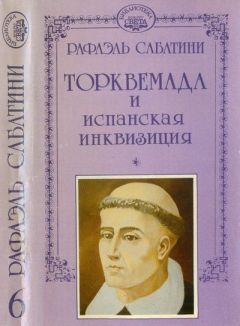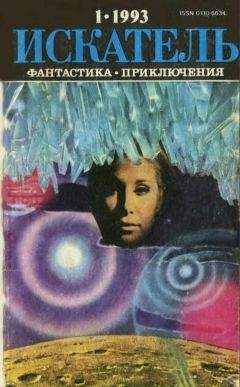Проклятие (ЛП) - Сабатини Рафаэль
Ей-ей, я предполагал всё это. Шаг за шагом я спускался по отвесному склону подлости и бесчестия, ясно видя то, что находится внизу, и при этом никогда не прикладывая ни единого усилия, чтобы сдержать своё позорное нисхождение. Возможно, дьявол и обхаживал ещё большего мерзавца, а возможно, и нет.
Осталось ли какое-нибудь унижение, в грязи которого я ещё мог бы вывалять гордое старинное имя Хульденштайнов и свою опороченную честь? Мне думалось, что нет. Я был как человек, который провалился в болото, — слишком глубоко, чтобы когда-либо выбраться самому, слишком прочно завязнувший, чтобы суметь оттолкнуться, — и для которого нет другого выбора, кроме как ждать конца в той грязи, где он барахтался.
Но если мне нужно ждать, я не стану ждать в Шверлингене, где меня знали и где каждый взгляд, ниспосланный мне, отныне был бы оскорблением. Мне нужно немедленно уехать! Уехать куда?
На этот вопрос поистине не было ответа.
Тут внезапное желание охватило меня. Желание снова увидеть замок моего отца в провинции Хаттау, дом, который когда-то был моим и который принадлежал всем, кто носил моё имя, исключая меня самого — изгоя. Мне внезапно страстно захотелось поглядеть на тех, с кем я был разлучён двенадцать лет назад.
Там был мой старик отец. Кто мог сказать?.. — возможно, старость смягчила его сердце и приближение смерти привело во всепрощающее состояние духа. Там были мои сёстры: Эстер, самая старшая (она, наверное, седая теперь), и маленькая Стефани, которая плакала той ночью, когда я покинул замок. И там был Фриц. Помнит ли ещё он старшего брата, который первым учил его сидеть на лошади и держать шпагу? Я в сомнении покачал головой. С тех пор пронеслось двенадцать лет, а Фриц в те далёкие дни был десятилетним мальчиком. Он давно уже стал взрослым!
Когда я поразмышлял над всеми этими обстоятельствами, решимость во мне усилилась. Я поеду, я отправлюсь сразу же! Тут я внезапно остановился, и у меня вырвался стон.
Как мне ехать? У меня не было коня — я продал своего последнего две недели назад; у меня не было денег; я мог бы, пожалуй, сказать, что у меня не было одежды. Даже дублет [5] на моих плечах истёрт и заношен до крайности, штаны не в лучшем состоянии, а сапоги такие, что их стыдился бы и какой-нибудь конюх.
И всё же ехать я должен и, клянусь мессой, поеду, — ей-ей, даже если… С отвращением я задержал опасную мысль. Ещё недавно я думал, что нет такого рода бесчестья, которого бы не попробовал. Я ошибался; был ещё один. Можно ещё стать вором и истребовать денег остриём шпаги. Но я не мог этого сделать! Я же был всё ещё в некоторой степени Хульденштайном!
Тут я засмеялся — или, может, моими же устами сам дьявол издевался над моим лучшим “я”? Не знаю. Достаточно того, что я высмеял свои колебания. Моя совесть стала внезапно так разборчива, что меня коробит вырвать доверху набитый кошелёк у какого-нибудь богатого болвана, который по нему и не заскучает! Я совершал поступки столь же грязные, разве что иным способом. Почему мне следует останавливаться перед этим? Для человека, чья честь незапятнанна, то было бы действительно невозможно; но для меня — ещё чего! Это единственный путь, и он приведёт меня домой.
Я бесцельно бродил по улицам в продолжение своих злосчастных размышлений, а тем временем опустилась ночь и стало совсем поздно. Воздух, как мне ясно помнится, был резким и морозным, хотя наступил апрель.
Я сделал остановку перед церковью Святого Освальда [6] и с минуту стоял со склонённой головой, пока искуситель боролся с моим ангелом-хранителем. На этот раз дух зла был побеждён, и я наконец развернулся и направил свой путь к унылому дому на Мондштрассе (Лунной улице — нем.), где занимал комнату в нижнем этаже. Мой путь пролегал через северный городской квартал, в котором не было повешено ни одного фонаря, пока Валленхайм не стал министром в 1645-м, — двумя годами позже событий, о которых я сейчас пишу. Луна была яркой, однако, а небо чистым, света вполне хватало — если бы было иначе!
Я быстрым шагом обогнул угол Мондштрассе и уже был в пятидесяти шагах от своей двери, когда моё внимание привлёк высокий кавалер, приближавшийся с противоположного конца узкой улицы. Его плащ развевался за ним на ветру, а серебристое кружево на дублете поблёскивало в лунном свете. Именно всё это вкупе с горделивой осанкой заставило меня счесть его птицей, заслуживавшей быть ощипанной, и, — снова поощряя гнусное намерение, которое я недавно подавил, — вернуло меня назад в тень подворотни.
Я глянул туда-сюда по улице. В поле зрения не было ни единого живого существа. Царила полная тишина, исключая только звон его шпор на неровной мостовой. Поистине тут замешан был сам дьявол, предавая его таким образом в мои руки!
Я почувствовал горячую кровь, прихлынувшую к голове, — гонимую туда стыдом за себя и гнусный поступок, который обстоятельства, казалось, принуждают меня совершить. Воздух был полон глумливых звуков, даже слабый шум ветра, казалось, прошелестел слово “вор” близ моих ушей.
Я освободил шпагу от ножен и стоял ожидая. Как медленно он подходил! Я приложил руку ко лбу и отдёрнул её влажной от пота — холодного пота ужаса. Тьфу! Я болван, тошнотворный трус! Жизнь — игра, и кости выпали против меня.
Он оказался на одной линии со мной, проходя со склонённой головой и тихонько напевая на ходу.
Глухой к последнему молящему воплю чести и совести, я выскочил из тени и, протянув шпагу, приставил остриё к его груди, преграждая ему путь.
Он поднял взгляд, откидывая назад голову, словно конь, которого внезапно осадили, и показал мне худое, орлиное лицо и остроконечную бородку.
Его губы раздвинулись, но, прежде чем он успел заговорить, я свирепо выдал:
— Если закричишь, — ей-богу, проткну насквозь!
— Ты смелый подлец, — проронил он в легкомысленном тоне непринуждённого подшучивания, — но самонадеянный. Пресвятая Дева, неужели я похож на женщину, чтобы ты боялся, что я буду звать на помощь при виде одинокого пугала?
— Сказано храбро и весьма мудро, о болван! — ответил я, немало задетый его отношением и словами. — Сохраняй этот благоразумный настрой, тогда наше дело будет скоро улажено.
Он безмятежно улыбнулся снисходительной, терпеливой улыбкой, которой важный господин мог удостоить конюха.
— Ты говоришь о деле. Могу я справиться о его природе?
— Твой кошелёк и драгоценности. Живее!
— Если это всё, — сказал он сдержанно, стянув с пальцев пару колец, — нам не нужно тратить времени.
Он протянул побрякушки, и я выставил вперёд руку, чтобы получить их, при этом не спуская с него глаз. Одно из колец упало мне в ладонь, другое задело край руки и свалилось на землю. Инстинктивно я попытался проследить за ним взглядом. И то была причина моей погибели. Быстрый как молния, он воспользовался моей кратковременной невнимательностью и, подбросив мою шпагу, со смехом отскочил назад.
Прежде чем я полностью осознал, что произошло, и уловку, которую против меня применили, он выхватил свою рапиру и занял оборонительную позицию.
— Теперь, мой господин, — заиздевался он, — я в лучшем положении, чтобы обсудить с вами вопрос о праве на мой кошелёк, если действительно, — добавил он с явным пренебрежением, — вы ещё расположены продолжать спор.
Мне не хотелось этого делать, но выхода не было. Мужество, или, вернее, презрение к смерти, которое могут знать только те, чья жизнь ничего не стоит, — вот что было последним подобием добродетели, оставшимся мне. Считаться трусом даже во мнении того, кто меня не знал, было нестерпимо.
Моя шпага лязгнула о его, и вот мы уже стояли, скрестив оружие, — каждый нерв настороже, и каждая мышца наготове. Тут внезапно проклятие священника снова пришло мне на ум и пронзило холодом. Неужели это сверкающее остриё, которое плясало передо мной в лунном свете, предназначено исполнить пророчество капуцина?