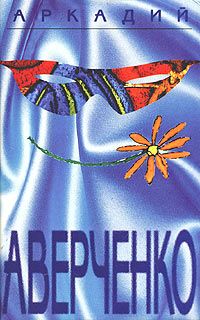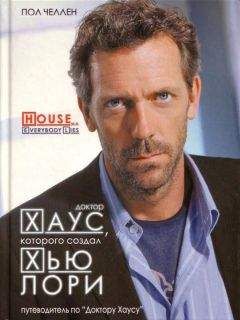Денис Лапицкий - Милосердие
Неожиданно Гюнтер вынул из кошелька еще пять монет.
— А это — за Юстаса и его людей. Ты понял меня, старик?
Это было невероятно. Такое случилось впервые. Я смотрел на сидевшего напротив командира наемников — и глубоко в груди, там, где, казалось, давно сгорело и рассыпалось седым пеплом все, что может чувствовать, вдруг что-то шевельнулось…
— Да. Я тебя понял.
Не говоря больше ни слова, Гюнтер поднялся из-за стола и направился к выходу. Он уже взялся за ручку двери, когда я сказал ему вслед:
— Ты великодушный человек.
Он обернулся — и вдруг… Словно тучи разошлись, открывая солнце — наемник улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой. Ничего не сказав, он захлопнул за собой дверь.
Потрескивали лучины и свечи, по-прежнему скрипели над головой доски перекрытия — а я все сидел и смотрел на десять золотых монет, разложенных на темной поверхности дощатого стола…
* * *Изумрудная зелень травы. Лазурная синева неба. Ослепительно-яркий желток солнца. И две блестящих серебром линии воинов на расстоянии трех сотен шагов друг от друга. Видны просверки мечей, солнечный свет играет на копейных жалах, на остриях алебард и протазанов, на изогнутых лезвиях боевых топоров, дробится на пластинах брони. Прядают ушами боевые кони, полощутся на ветру два штандарта — на одном из них встал на дыбы солнечно-желтый лев, на другом развернул крылья алый грифон. Я вижу, как перед строем своих бойцов на коне медленно проезжает Гюнтер — мои глаза все еще зорки, несмотря на старость, и я вижу, что предводитель «Желтого Льва» облачен в прекрасный миланский панцирь, а в правой руке у него длинный полутораручный меч. Немецкий клинок, надежный, но тяжелый — впрочем, вполне под стать такому здоровяку. Гюнтер что-то говорит своим людям, но услышать его слов я не могу — слух у меня гораздо хуже зрения.
Отряды готовы к бою.
Перед выстроившимися бойцами семенят монахи в коричневых сутанах, осеняя бойцов крестными знамениями, давая целовать кресты… Лицемеры. Как их не поражают молнии за то, что они благословляют воинов на битву, в которую те идут ради денег? Впрочем, равнодушие небес к таким вещам меня уже давно не удивляет…
…Когда-то я и сам ходил в такой сутане. Следовал за отрядами наемников, пытаясь наставить их на путь истинный, отвратить от убийства, уговаривал сменить мечи на орала… И слышал в ответ: а где были вы, монахи-благожелатели, когда враг или бандиты вырезали наши деревни, рубили головы нашим отцам, предавали огню посевы, обрекая наших матерей на голодную смерть?
Потом, видя тщетность своих призывов, я стал врачевателем — вычищал тем же наемникам гнойные раны, ампутировал чернеющие, отгнивающие заживо руки и ноги, зашивал распоротые животы… И слышал проклятья от тех, кто никогда уже не сможет пройтись по земле своими ногами, никогда не сожмет в своей руке рукоятки плуга или черен меча, никогда не увидит своими глазами солнечного света или лица врага… Бесконечные смерти и страдания, которые я видел, выжгли во мне все чувства. Я перестал ощущать жизнь, как ощущает ее каждый человек. Но я продолжал следовать за отрядами воинов — потому как понял, что им нужнее всего не милосердие попов и не милосердие врачевателей. Воинам нужно милосердие воинов. И дарование этого милосердия стало моим долгом…
Я сошел с холма, с вершины которого наблюдал за разворачивающимися отрядами, укрылся от происходящего за его поросшим травою горбом. Я не желал быть свидетелем того, что начнется через несколько мгновений, — и не видел, как всадники устремились навстречу друг другу, как ринулась им вслед пехота, как в первый раз обагрились кровью мечи… Я зажал уши, радуясь, что зрение у меня лучше, чем слух, и долго сидел, слушая толчки крови, текущей внутри моего тела. Перед моим взором на длинной травинке красной капелькой покачивалась божья коровка, на выпуклой спинке которой было семь черных пятнышек. Семь — счастливое число…
* * *Ровный ковер изумрудно-зеленой травы, совсем недавно покрывавший землю, теперь был жестоко изорван подковами конских копыт и бронированными башмаками пехотинцев, залит кровью, усеян телами мертвецов. Пахло кровью, железом и выгребной ямой — когда из тела уходит жизнь, нечистоты в нем тоже не держатся. Я шел между телами, осторожно ступая по изрытой почве подошвами простых сандалий. Я видел, что к полю брани уже торопятся другие люди — врачеватели, которые будут искать выживших, маркитанты из обозов и мародеры, которые станут сдирать с павших доспехи, потрошить кошельки и собирать оружие, священники, чтобы вытащить с поля тех, кому врачеватель уже не нужен…
Гюнтера я отыскал в самой середине поля. Конь под ним был убит ударом длинной пики, а сам предводитель отряда наемников лежал, сжимая рукоять меча, почти по самую гарду вбитого в грудь человека в черном панцире и в шлеме с плюмажем — Юстаса Эльмского.
Командир «Желтого Льва» был еще жив. Хотя жить ему оставалось недолго — из бока торчало обломанное копейное древко, панцирь был изрублен. Из пробитых отверстий свисали окрашенные алым клочья поддоспешной куртки, в громадной ране на животе виднелось что-то сизо-серое, влажное, кровоточащее. Лицо воина было залито кровью. В двух шагах от сошедшихся в последней схватке предводителей отрядов лежали штандарты «Желтого Льва» и «Алого Грифона».
Я подошел к Гюнтеру, опустился на корточки рядом с ним. Он с трудом открыл глаза.
— Это ты, старик… Что ж, теперь я знаю, что мои деньги не пропадут зря. Помни — ты обещал.
— Я помню, Гюнтер, — сказать, что из двух отрядов не уцелел никто, я просто не смог.
— Хорошо, — глаза его закрылись. — Только… не медли.
Я наклонился над ним, обхватил левой рукой за широкие плечи, с трудом приподнял, вжимая его лицо в грубую ткань сутаны, чувствуя, как та намокает, пропитываясь потом и кровью наемника.
Узкий трехгранный стилет легко вошел в щель между пластинами панциря, прошивая сердце. Тело Гюнтера в последний раз напряглось — и обмякло. Теперь уже навсегда. Еще несколько мгновений я прижимал его голову к своей груди, прежде чем, наконец, осторожно уложить Гюнтера на землю.
Обвитая кожаным шнуром рукоятка стилета лежала у меня в ладони, узкое лезвие было покрыто кровью. Да, бывает и такое милосердие — милосердие воинов. Последнее милосердие.
А на лице Гюнтера застыла улыбка. Та самая мальчишеская улыбка, которой он улыбнулся мне в таверне…
Я накрыл его штандартом «Желтого Льва». Окружающее вдруг расплылось у меня перед глазами — и я не сразу понял, что плачу. А в груди, там, где, как мне казалось, все уже давно сгорело и рассыпалось седым пеплом, беззвучно кричала боль…