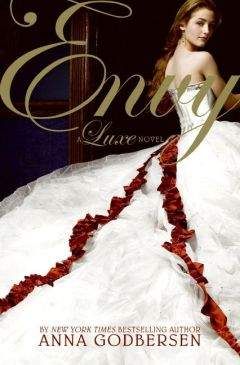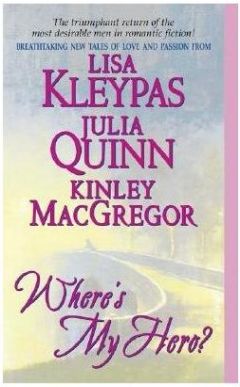Михаил Голденков - Три льва
— Умна и обучена наукам. Правда, по своим неверным литвинским правилам, — закивал Рустем.
— Хитрец ты, Рустем, — погрозил пальцем татарину визирь, видя, что тот, нахваливая Кютюр, всякий раз указывает и на недостатки, словно не желая продавать девушку. — Хочешь вновь спрятать такой цветок?
— Нет, о уважаемый из уважаемых великий визирь! — заволновался Рустем. — Просто не хотел лишним людям показывать до поры до времени. Всем так говорил, вот и привык. А ведь я специально для Вас ее вез. И не ради денег. Такой красивой розе место лишь в самом богатом саду.
— Из Литвы, говоришь? — все еще оценивающе осматривал визирь пленницу с севера. — Верно, литвинки красивы, как молодые лани. А как ее там звали по рождению?
— А вот это мне неведомо, о великий визирь. Прости ради Аллаха! — склонил голову Рустем.
Но Кютюр поняла вопрос Кепрюлю. Она вновь посмотрела на визиря своим магическим взглядом и ответила:
— Имя? Я не помню своего имени…
Глава 2 Старая гвардия
— Эй! Здесь есть кто? — по-русски и громко крикнул Альберт Герберштейн, и его голос гулко отозвался во мраке затянутого паутиной потолка брошенного замка. Никого… Лишь жужжание проснувшихся мух над пыльным полом. Австрийский тайный посол в Московии снял неудобную треугольную шляпу с огромным страусиным пером со своего высокого пышного парика и сделал еще пару шагов по заваленному мусором коридору этого явно некогда шикарного дворца какого-нибудь литвинского шляхтича. Никого… Лишь ветер холодными порывами дул в пустые глазницы разбитых окон, да где-то поскрипывали двери. Герберштейн приложил к носу надушенный батистовый платок, чтобы не ощущать повеявший запах гнили — не то дохлого животного, не то…
— Нет здесь хозяев! Пойдем обратно, пан амбасадор, — послышался сзади голос литвинского проводника по имени Ян. По голосу Яна было слышно, что этот литвин уже допил свою флягу с крамбамбулей.
«Литвины, кажется, все Яны и все пьют, — подумал Герберштейн, — хотя не пить тут сложно. И вот же диво! Все разорено, а медовуху гонят исправно и убойной силы!» Герберштейн тут же вспомнил, как два дня назад хлебнул этой самой литвинской медовой водки и чуть не упал. Ну а Ян за сегодня уже целую флягу осушил — и хоть бы что!
Герберштейн решил покинуть грустный замок и на прощание бросил сочувственный взгляд на изъеденный мышами и прочей живностью потрескавшийся портрет странного человека в псовой или волчьей маске на голове, со щитом и луком за спиной. Не то портрет упал, не то его кто-то специально поставил на пол, прислонив к стене. Асимметричные глаза усатого человека с портрета зло смотрели на Герберштейна взглядом вышедшего из могилы мертвеца. Казалось, сам мертвый хозяин заброшенного жилища сердится на непрошеных гостей. Тайный посол поежился от неприятного холодка, пробежавшего по его спине, развернулся было, чтобы уйти, но внимание австрийца привлекла бумага, заткнутая между картиной и стеной. Опытный глаз посла сразу же определил — какой-то документ с печатью. Словно кто-то специально аккуратно оставил здесь этот документ, скрутив его в рулон и засунув за портрет. Но рулон развернулся, и лист документа выглядывал из-за угла картинной рамы, как бы говоря: «Я тут!..» Герберштейн, переступая через обломки деревянной мебели, приблизился, нагнулся и вытащил за краешек бумажный лист, весь в паутине, посеревший от пыли, но с явной гербовой печатью Речи Посполитой — польским орлом и литвинской Погоней. На документе австрийский посол разобрал текст на русинском языке:
Стефан, божьею милостью король польский, великий князь литовский, руский, пруский, жомойтский, мазовецкий, лифлянтский, княжа Седмигродское и иных. Ознаймуем тым листом нашим каждому, кому того ведати будет потреба, нынешним и напотом будучим, иж мы, господарь, вземши ведомость о зацности дому старожитного пана Филона Кмиты-Чорнобыльского старосты оршаньского…
То была жалованная грамота Оршанскому старосте Филону Кмите-Чернобыльскому о возведении его в звание сенатора с титулом воеводы Смоленского. Заканчивался документ подписью с датой:
Писан у Вильни, лета божьего нароженья 1579, месяца октебря 18 дня.— Знатная папера! — Герберштейн аж вздрогнул: это хмельной Ян стоял за спиной посла и через плечо совал свой сизый от спиртного нос в документ. Герберштейн даже не заметил, как он подошел.
— Так, пане, тут, стало быть, некогда старый пан Кмитич, воевода Филон Кмит жил, — кивал длинными серыми усами Ян, с явно сочувственным видом, — знатный род в Литве. Эх…
— Серьезный документ, — потряс грамотой Герберштейн, — самим Стефаном Баторием заверенный. Такие бумаги терять нельзя. Кто-то ее тут явно спрятал. А мы нашли! Я, пожалуй, возьму его с собой и передам позже кому нужно.
— Берите, пан амбасадор, — заплетающимся языком соглашался Ян, — тут уж никому сей лист не потребен. Тут уже казаки похозяйничали. Московиты приходили. Вновь казаки и татары. Тьфу! Холера ясна! Чтоб им всем гореть в аду адским отжигом…
Карета Герберштейна тряслась по пустынной и разоренной казаками, московитами, татарами и наемниками всех мастей дороге Чернобыльщины, пересекая с юга на север Великое Княжество Литовское, Русское и Жмайтское. С ужасом взирал австрийский посол через стекло кареты на проплывавший за окном лунный пейзаж: дорога, покрытая ухабами да колдобинами, мертвые деревни, разбитые фольварки, брошенные поля, взрытые из-за людской ненадобности кротовыми норами, редкие телеги, торчащие поломанными колесами в придорожных канавах… Земля Брестского воеводства словно вымерла. Тринадцать лет войны унесли отсюда все живое.
Разоренный замок Радзивиллов в Вильне
— Да уж, Литве досталось от царя, — грустно произносил тайный посол, глядя из окна своей кареты на брошенную веску с опустевшим замком, слушая, как ехавший впереди хмельной проводник заводит тоскливую литвинскую песню:
Ой ты мая ружа кветка,
Чаму ж ты завяла?
Пэўна, доўга ты, дзiцятка,
На вадзе ляжала.
Узяла мацi ружу кветку,
Палажыла ў хаце,
Ды як гляне — успамiнае
Аб сваiм дзiцяцi.
Впрочем, проводник, как показалось австрийскому послу, не очень расстраивался при виде обезлюдевших деревень и брошенных замков — для него подобные пейзажи, кажется, стали привычными. К счастью, лунные ландшафты иногда сменялись вполне земными: обитаемые хутора и вески, ожившие местечки, приветливые жители, по страшной дешевке, с точки зрения Герберштейна, продающие отменнейший сыр и ржаной хлеб, какого австрийский посол нигде более не пробовал. И вот тогда Герберштейн вновь ощущал себя на своей планете. Но карета отправлялась далее на северо-восток, и опять глазам открывался унылый пейзаж частичной или полной разрухи.