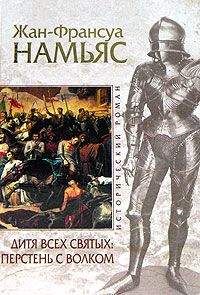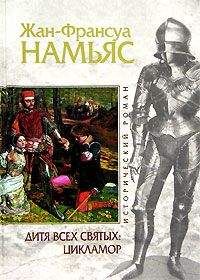Жан-Франсуа Намьяс - Дитя Всех святых. Перстень со львом
Эд де Вивре решил также, что слова «Мой лев» станут девизом всего его потомства, гордо красуясь под щитом «пасти и песок». И он истребил всякий след, который мог бы привести к его подлинному имени — тому, которое он носил, будучи простым оруженосцем. Точно так же он поступил и с именем того рыцаря, у которого был в услужении. Вот так и вышло, что тот, кто прежде звался, быть может, Мартен, Гайяр или Дюбуа, прибыл в Вивре просто Эдом, но зато с тех пор для всех своих потомков остался только Эдом де Вивре, и никем более…
***Род де Куссонов, тоже бретонский, чей замок располагался к югу от Ренна, не считался более знатным, чем род де Вивре, но был при этом гораздо древнее.
Начало его тоже было положено во время крестового похода, только Первого, того самого, когда у неверных был отвоеван Град Святой. В нем участвовал некий Боэмон де Куссон, первый носитель этого имени. Свои рыцарские шпоры он получил в 1100 году от Бодуэна I, короля Иерусалимского. В качестве эмблемы он выбрал серебряный щит и на нем два муравленых, то бишь зеленых, креста. Этому первоначальному гербу де Куссонов суждено было век спустя измениться при самых необычных обстоятельствах.
В 1223 году носитель титула звался Юг де Куссон. Отец его, Тьери де Куссон, умер, не дождавшись его рождения. Но был ли Юг действительно посмертным сыном Тьери? Многие утверждали, что нет, и в качестве доказательства ссылались на очевидность и на легенду.
Под очевидностью разумелся внешний вид Юга де Куссона. Он был покрыт волосом с головы до пят. Впрочем, то была не густая, взъерошенная шерсть, но как бы легкий пушок, распространившийся по всему его телу таким образом, что те части лица, которые обычно покрыты усами и бородой, казались не более волосатыми, чем лоб, уши или нос. То же и с руками: ладони были столь же мохнаты, как их тыльные стороны и пространство между пальцами.
Само собой, не обошлось без того, чтобы подобную причуду природы не попытались как-нибудь объяснить. Сюда-то и вторглась легенда. Теодора де Куссон, его мать, умерла во время родов, произведя на свет столь странного отпрыска. Она успела прожить весьма бурную жизнь. Капризная, спесивая, неверная, она открыто изменяла своему мужу, и чаще всего это случалось как раз в ту пору, когда был зачат Юг. Тьери из-за болезни был уже близок к концу, а она целые ночи проводила в окрестных лесах, кишевших волками.
Отсюда оставался всего один шаг до предположения, что Юг стал плодом противоестественного союза, и шаг этот большинством обитателей Куссона был сделан, когда открылось, на что похож новорожденный. А тот факт, что его мать умерла во время родов, послужил лишним тому доказательством: дескать, Теодора де Куссон совокупилась с волком, вот Бог и покарал ее смертью, когда появился на свет плод ее нечистой страсти.
Как бы там ни было, но ничего чудовищного, кроме диковинной наружности, в Юге де Куссоне не наблюдалось. Пожалуй, даже наоборот: вскоре по всей округе разнеслась молва о его редком благоразумии. Он превратил свой замок в пристанище всяческих искусств, где постоянно толпились труверы[3]. Сам он предавался ученым занятиям в замковой библиотеке. Поговаривали даже — и вот это было, без сомнения, правдой, — что он увлекался алхимией, но в своих изысканиях проник, быть может, в области еще более таинственные…
Юг де Куссон едва достиг возраста тридцати лет, когда разразилась зима 1223 года. Это была самая ужасная зима на памяти людской. Замерзло все: деревья лопались, как стекло; камни рассыпались в прах от малейшего удара; трупы бесчисленных животных сделались хрупкими, словно безделушки тончайшей работы.
Увеличилась смертность и среди людей; в жилищах накапливались тела умерших, поскольку их нельзя было не только похоронить в окаменевшей от мороза почве, но даже поместить в гробы. При столь низкой температуре дерево становилось слишком неподатливым, чтобы из него можно было выстрогать гроб, а гвозди ломались, стоило по ним стукнуть молотком. Поэтому каждый держал своих покойников дома, в самом холодном месте, то есть подальше от очага, и в крестьянских лачугах можно было наблюдать странные ледяные статуи, покоящиеся на земле, словно надгробные памятники в усыпальницах богатых аббатств или в родовых склепах знати.
Казалось, с поверхности земли исчезла любая жидкость. Вода и вино застывали в своих сосудах, и даже помочиться вдали от огня означало подвергнуть себя крайнему риску, ибо струя отвердевала прежде, чем успевала достичь земли. Что касается слез, то они намертво пристывали к щеке, стоило им вытечь, и можно было вырвать глаз, попытавшись убрать их с лица.
Льдом сковало обширнейшие водные пространства. Тяжело груженные повозки могли пересекать реки, озера, даже моря. Поговаривали, что некие путешественники, отправившиеся в северные страны, сумели перебраться на санях из Дании в Швецию.
Во время самых лютых морозов в Куссонской сеньории случилась еще одна нежданная беда: волки, точнее, волк чудовищных размеров. Все свидетели утверждали в один голос: видом и шкурой зверь был точь-в-точь как волк, но раза в четыре, а то и в пять крупнее, ростом примерно с теленка. Человек таких же пропорций походил бы на сказочного людоеда или великана.
Опустошения, которые производил этот невиданный зверь, были ужасны. Нападал он всегда внезапно, не страшась при этом ни оружия, ни количества противников. Растерзав свою жертву, оставлял ее выпотрошенной, с распоротым чревом, с разбросанными вокруг и замерзшими внутренностями. Нападения его сделались столь часты, что к концу февраля количество жертв перевалило за сотню.
Холод ничуть не смягчился. Небо по-прежнему оставалось такого же светлого, ровного свинцово-серого оттенка, как и в тот день, когда ударили морозы; повсюду среди мертвой растительности валялись окаменевшие трупы. И не ощущалось ни малейшего запаха в невообразимой чистоте этой кошмарной зимы.
К Югу явился местный священник и заговорил от имени всей своей паствы.
— Монсеньор, чудовищный волк разоряет и губит ваших подданных. Только вы один можете справиться с ним.
Юг де Куссон пристально посмотрел на священника из-под своей шерсти. Того даже озноб пробрал от пронизывающего взгляда, которым удостоило его существо столь зверской наружности.
— Почему именно я? Я ведь не лучший охотник, чем любой другой.
Но кюре не отступился.
— Монсеньор, мы все уверены, что такого зверя может уничтожить лишь тот… кто сам ему подобен.
Юг де Куссон ничуть не разгневался на эти речи, намекающие на противоестественную страсть его матери. Напротив, он надолго задумался, а потом объявил с самым серьезным видом: