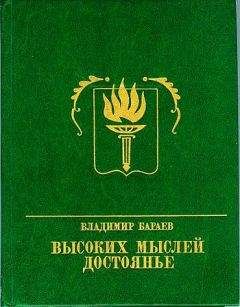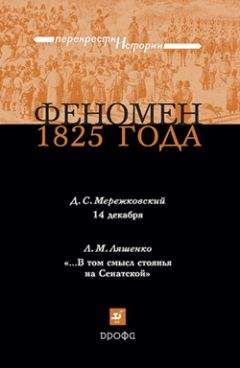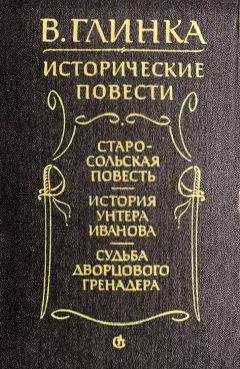Ольга Елисеева - Последний часовой
Но трое несчастных полетели вниз. Не выдержав тяжести кандалов, гнилое вервие оборвалось. Повешенные рухнули в яму, пробив собой дощатый настил. Испуг был общим. Солдаты не сразу ринулись их вытаскивать, а когда подняли обратно на вал – придушенных, исцарапанных, в рваных мешках, – смотреть на преступников не было мочи. Они задыхались и харкали кровью. Муравьев и Каховский так расшиблись, что не могли говорить. А Рылеев, не видя уже перед собой мучителей, крикнул зеленовато-розовым утренним небесам:
– Неужто и тут мне суждено пробивать смерть лбом?!
Эта непочтительная фраза, мало подходившая к моменту, еще долго с негодованием передавалась из уст в уста, как доказательство особой безнравственности. В такую минуту следовало, проливая слезы, возносить молитвы за свою грешную душу!
Других веревок не было, пришлось посылать в лавки, по утреннему времени закрытые. Так проволынили еще более получаса. Наконец достали втридорога и, чертыхаясь, начали прилаживать заново. Опять явилась скамья. Послышался барабан, нервно выбивавший «зеленую улицу». Без посторонней помощи осужденные уже не могли держаться на ногах. На их лицах и на лице Чернышева застыло похожее выражение: «Ну хоть теперь не подведите, братцы!»
Доска шатнулась, ноги оскользнулись на ней, и новые веревки оправдали надежды.
– Шведский корабельный канат, – сиплым голосом сообщил комендант крепости Голенищев-Кутузов.
– Вы чего шипите? – озлился генерал-адъютант. – Не вас же вздернули!
Он одарил товарища по несчастью гневным взглядом, в котором был и упрек за нерасторопность, и обещание все рассказать императору. А потом отъехал в сторону, бормоча под нос: «Ни жить ни умереть, мать твою в дышло!»
Со стороны моста, где стояли родственницы осужденных, стиснутые со всех сторон любопытными, послышался истошный женский плач. Немногочисленная, но с каждой минутой прибывавшая толпа рванулась было через заграждения к виселице в надежде поглумиться над трупами. В воздухе замелькали камни и палки. Но солдаты оттеснили зевак от места казни.
– Глядеть гляди, да не подходи! – рявкнул пожилой сержант.
Через два часа тела сняли и отнесли в Троицкую церковь для отпевания. На следующий день должен был состояться общий молебен за упокой тех, кто погиб на Сенатской площади.
Все было кончено. Все только начиналось.
Часть I
Глава 1
Белый лист
Лист лежал на полу, издали напоминая оброненный платок. Крылья бумажки топорщились, сквозняк с лестницы двигал ее по навощенному паркету, как ладью по шахматному полю.
Кто оставил записку? Кому она предназначалась? Кем будет поднята?
Только что стадо придворных, шумно топоча, хлынуло в высокие двери Большого зала Невской анфилады. Первый дипломатический прием назначили на первый день первого месяца первого года царствования. Символизм ситуации был очевиден.
Позолоченная резьба. Лавровые венки, пронзенные молниями. Римские шлемы над скрещением мечей и стрел. Гордые орлы с дубовыми ветками в клювах. Весь этот прекрасный и воинственный декор долженствовал напомнить присутствующим, кто победитель Европы. Чьими штыками установлен мир. Кого не следует беспокоить в его собственном логове.
Молодой самодержец собирался расставить точки над «и». Министры, как водится, удерживали его. Придворные сгорали от нетерпения. Полномочные представители великих держав уклонялись от комментариев. Говорили только, что у вдовствующей императрицы три сына: двое умных, а третий… государь.
Злополучный день 14-го потряс всех. Послы жаждали объяснений. И, исходя из них, намеревались отписать к своим дворам, будет ли Россия по-прежнему играть первую скрипку, вернее барабан, при всяком революционном замешательстве в Европе.
Держава, грозная сама в себе, дала трещину. Ее броня крошилась, как яичная скорлупа. Скоро, может быть уже сейчас, Петербургу станет не до заграничных происшествий. Ибо исключить кровавое развитие событий дома нельзя. И хотя вечером 14-го министр иностранных дел Нессельроде лично заверял дипломатический корпус, что, верная принятым обязательствам, Россия намерена поддерживать Священный Союз, в этой поспешности сквозила тревога.
Приглушенное гудение за белыми высокими дверьми напоминало пасеку. Пора было собирать мед, и императрица-мать несколько раз нетерпеливо дернула головой в ожидании сына. На лестнице послышался мерный топот – размашистые шаги государя, а за ним, чуть позади поспешное скольжение генерал-адъютантов, ловивших на ходу слово, жест, взгляд.
Лист по-прежнему лежал на паркете. Очевидным образом, его обронил кто-то из вошедших в зал. Николай Павлович споткнулся глазами о бумажку. Неудовольствие мелькнуло на его бледном хмуром челе. Не останавливаясь, он поднял ее, пробежал глазами и сунул за клапан рукава. По выражению лица императора невозможно было угадать, какое впечатление произвел на него текст. Двери распахнулись.
– Господа полномочные министры, послы и посланники!
Рокот голосов оборвался как по команде.
– Я прибыл для того, чтобы заверить вас во всегдашней доброй воле России и своей личной благосклонности…
Поклонившись, Никс прошел на середину зала и остался там один, точно собирался воевать с гостями. Очень высокий, очень худой, очень бледный.
– За последние полмесяца вы не раз спрашивали себя, чему стали свидетелями. Что за люди осмелились нарушить покой империи в скорбные дни, когда столица оплакивала потерю благословенного монарха?
У императора был сильный густой голос, позволявший без напряжения покрывать большие пространства. Но слова давались ему с трудом. Он явно не хотел говорить. Как не хотел и находиться здесь, о чем красноречиво свидетельствовала напряженная поза. Голова наклонена вперед, правая рука на поясе, плечи чуть ссутулены, взгляд исподлобья. Голубая Андреевская лента только оттеняла гипсовую белизну кожи.
– Говорят, у его величества из-за непомерного роста неправильное обращение крови, – шепнул французский посол Ла Ферронэ. – Оттого и цвет лица…
– У государя богатырское здоровье, – дипломатично соврал Жуковский. – За всю жизнь он болел лишь однажды. Кажется, корью.
– Мне рассказывали, что 14-го молодой монарх был белее холста, – вставил австрийский поверенный в делах граф Лебцельтерн. – И есть такие, кто объясняет это трусостью.
– Тише, господа!
Император продолжал говорить.
– Я могу с чистым сердцем заверить вас, что в настоящий момент очаги мятежа подавлены, заговорщики арестованы, а все войска благополучно присягнули законному государю. – Николай не смог выговорить: «мне». До него долетело слабое дуновение шепота из задних рядов: «И Кавказский корпус?». «И Кавказский корпус», – мысленно подтвердил он, но посчитал ниже своего достоинства произнести это вслух. Слишком большим облегчением для него был ответ Ермолова о вторичной присяге. И так старый волчище промедлил, выжидая, как дела повернутся в Петербурге. А под его командой 50 тысяч штыков, преданных не на жизнь, а на смерть. Двинь их Ермул-паша к столице, и как знать, кто бы теперь принимал послов в Зимнем дворце…