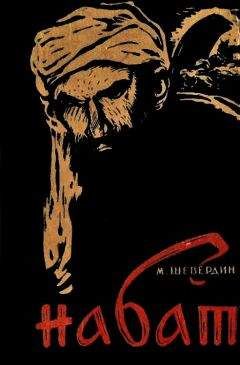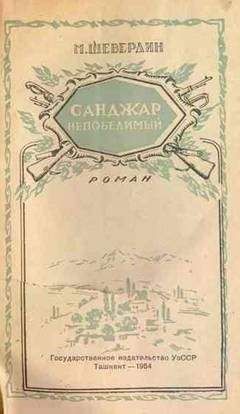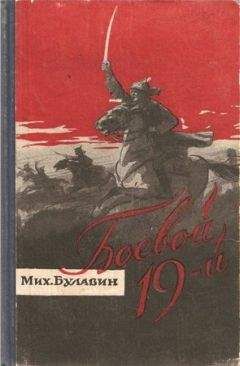Михаил Шевердин - Набат. Агатовый перстень
Гриневич утешался тем, что отступавшая колонна полностью, без потерь, достигла места назначения. Не без гордости он мог сказать, что в этом имелась и доля его трудов, доля его отваги...
Но, при всех условиях, части Красной Армии потерпели тяжёлую неудачу. Освобожденная совсем недавно от тирании эмира, страна снова оказалась в руках беков-феодалов, помещиков-арбобов, разнузданных басмаческих курбашей. Народ, только-только вздохнувший облегчённо и принявшийся строить новую жизнь, опять был брошен в лапы беков и баев, на горе, разорение. И кем? Неведомо откуда взявшимся, непрошеным, незваным, наглым, самоуверенным авантюристом. Проклятая собака!
С досадой Гриневич отбросил шинель и вскочил. Тьма окутывала бивак. Даже звёзды куда-то исчезли. Стараясь не наступить на чью-нибудь ногу или руку Гриневич прошёл среди спящих прямо на земле бойцам к коням. Дежурные продрогли и спали. Растолкав одного из них и не сделав даже замечания за такое неслыханное нарушение дисциплины, командир вывел Серого за черту привала, вскочил в седло и направился на восток.
Бодрый ветер дул в лицо, и в ветре этом чувствовалось неуловимое дыхание весны. Пахло свежестью, набухшими почками, неведомыми нежными цветами. Самопроизвольно в душе Гриневича зародились, возникли, сначала чуть слышно, а затем все громче, настойчивей звуки давно слышанной песни. Она рвалась из груди навстречу весеннему ветру.
Я знаю край, где нет печали,
В нем круглый год цветенье мая.
— неслась песня по степи в такт размеренному топоту коня. Голос Гриневича, мягкий и низкий, отличался чистотой звука и напевностью. И от ветра, от дыхания весны, от песни Гриневичу стало легче. Да и конь шагал бодрее. Возможно, безрассудно было пускаться в степь одному, да ещё с песней. Но Гриневич держался настороже. Не сразу его глаза привыкли к тьме, и только через некоторое время он смог различить белесую полосу дороги. Сначала конь шёл неохотно, зло фыркая, он прихрамывал, сказывалась пуля, задевшая его в недавней стычке. Гриневич не подгонял коня. Он отлично понимал узбеков, говорящих: «Рана коня вызывает у богатыря стон». Но вскоре с конем произошла чуть уловимая перемена. Упорное сопротивление всех мускулов, передававшееся всаднику, ослабло, и Серый пошёл ровно и спокойно. Он поднял голову и стал втягивать в себя с силой воздух. Он мог почуять лошадей, и Гриневич насторожился. Лошади в ночной степи? Не говорит ли это о присутствии врага? Но Серый не заржал. Конь чуял сено или клевер. Тогда родилась уверенность — жильё близко. Значит он, Гриневич, не ошибся, значит чёрное пятнышко, которое он видел перед самым заходом солнца далеко на востоке, действительно могло оказаться деревом, а где дерево, там и люди. Как жаль, что так быстро спустилась ночь и не далось ничего разглядеть. Но Серый уже рвался вперёд, пытался самовольно перейти на рысь и даже галоп. Ого! Значит ты чуешь жильё, друг! Но осторожнее! И вдруг неожиданно Гриневич увидел...
Совершенно явственно он различил в предрассветном оранжеватом небе чёрную юрту, стоявшую на длинном плоском и тоже ещё чёрном холме. Около юрты в небе вырисовывался силуэт фигуры человека. Он держал руку около уха. Человек прислушивался, не шевелясь и не двигаясь.
Ещё Гриневич не сообразил, как ему поступить, как раздался голос:
— Ким бу? Кто это?
— Ошна! Друг! — ответил уверенно Гриневич. Спокойствие не оставляло его, и он даже не взялся за рукоятку маузера.
Он подъехал к юрте и, убедившись, что ни рядом, ни в лощине за холмом нет ни юрт, ни коней, ни людей, спрыгнул на землю и подошел к всё ещё неподвижно стоящему человеку. Предрассветный сумрак скрывал его лицо. Гриневич смог разглядеть только шапку с меховой опушкой, тёмную курчавую бородку и накинутый на плечи тулуп.
— Серый, — угрожающе крикнул командир, но конь уже сбежал вниз на несколько шагов в густую тень и, жалобно взвизгнув, зубами вцепился в кожаное ведро. Слышно было, как скрипит у него на зубах кожа и бренчат поводья.
Только теперь Гриневич понял, как он сам хочет пить. Вот уже целые сутки они наталкивались только на засыпанные или отравленные падалью колодцы. И первым побуждением его было попросить воды.
Но, ворочая с трудом вдруг разбухшим, болезненным языком, он только сказал:
— Ассалям-алейкум!
Последовал ответ:
— Валейкум ассалям.
Какое мученье — эти китайские церемонии умирающему от жажды. Но разве можно показать этому всё ещё настороженно приглядывающемуся к тебе человеку, что тебя мучит жажда, разве можно выказать малейшую слабость?
После обмена вежливостями Гриневич задал вопросы о дороге, о близлежащих селениях.
Быстро светало, и чем светлее становилось, тем человек в меховой шапке беспокоился всё больше. Тревога зажглась в его узких глазках-щёлках, затерявшихся на мясистом, побитом оспой лице, но держался он гостеприимно. Он развел огонь в очаге, вскоре в чугунном кувшинчике забулькала вода. Появились на шерстяном дастархане ячменные лепёшки. Теперь смог не теряя достоинства, напиться и Гриневич. Руки его дрожали, когда он поднёс большую глиняную миску с кислым молоком к воспаленным губам, и спазма схватила его горло так, что он чуть не задохнулся. Вполне естественно, что он имел право единым духом влить в себя всё молоко из этой миски, чтобы затушить огонь, опалявший его рот, горло, желудок. Но неимоверным усилием воли, едва не теряя сознание, он медленно отпил пять-шесть глотков и, внутренне крича от ярости, поставил миску на землю перед собой.
Человек в меховой шапке не спускал взгляда с командира, и глаза его бегали по фуражке, синим «разгонам» на груди, по оружию.
— Пей ещё, — сказал он миролюбиво.
— Я напился, благодарю.
— Пей. Ты давно не пил. Очень давно не пил.
— Откуда ты знаешь?
— Ты оттуда, — человек кивнул на запад. — На дорогах воды нет, все колодцы засыпаны, людей нет, все разбежались. Пей, у меня воды много, чаю много.
И он прибавил:
— В лицезрении тебя, командир, я вижу высокое счастье и усматриваю особое благоволение судьбы и хорошее предзнаменование.
Он посмотрел на юрту, и Гриневич, проследив не без тревоги его взгляд, увидел в дверях женскую фигуру.
— Эй, Джамаль, — сказал человек в шапке, — у нас гость.
Женщина исчезла. Тогда доверительно человек в шапке сказал Гриневичу:
— Моя жена. Моя молодая жена. Женился недавно. Живу здесь. Играю с молодой женой. Хорошо, а?
Гриневич подтвердил:
— Хорошо!